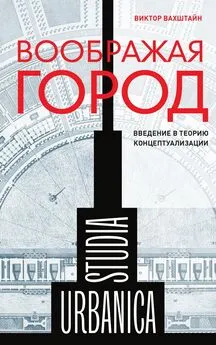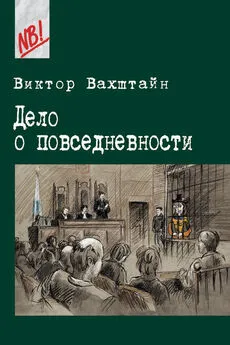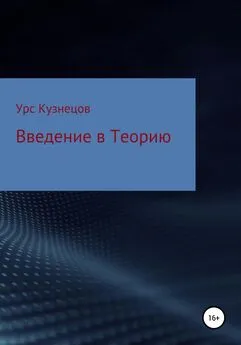Виктор Вахштайн - Воображая город. Введение в теорию концептуализации
- Название:Воображая город. Введение в теорию концептуализации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444816813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Вахштайн - Воображая город. Введение в теорию концептуализации краткое содержание
Воображая город. Введение в теорию концептуализации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Двойная ориентация пространства дома приводит к тому, что можно одновременно войти и выйти с правой ноги в прямом и переносном смысле слова, получая всю магическую прибыль, связанную с этим направлением, при том что никогда не разорвется связь, которая соединяет правое с высоким, со светом и с благом [Бурдьё 2001: 537].
Тот факт, что в описании кабильского дома Бурдьё больше похож на Леви-Стросса, чем на себя (более позднего), не должен вводить нас в заблуждение: будто бы существует предел масштабирования, и система концептуальных различений, «работающая» для города и страны, не подходит для описания отдельного дома. Последовательный бурдьевист способен переместить кабильскую хижину в Бурдьёполис небольшим усилием продуктивного теоретического воображения. Таково свойство всех неспецифичных концептуализаций: они не приклеены намертво к объектам одного масштаба.
Другое их свойство еще любопытнее.
Трансферабельность – это способность концептуальной схемы описывать объекты иной природы, нежели те, для которых она была разработана. Давайте заменим в описанной выше бурдьевистской концептуализации города всего один элемент, один концепт первой орбиты. Заместим «физическое пространство» – с его местами и границами – «институциональным пространством», состоящим из разного рода учреждений. Еще конкретнее: будем говорить только об одном сегменте социального пространства (который Бурдьё называет «полем науки») и об одном типе учреждений – об университетах, факультетах, кафедрах, лабораториях, журналах, исследовательских институтах. Что мы увидим? Конкуренцию агентов за ресурсы, сегрегацию и депортацию, воспроизводство устойчивых паттернов отношений, специфичные для данного поля практики и не менее специфичный габитус Homo Academicus [Bourdieu 1988]. Применительно к России мы, вероятно, опишем, как происходила поляризация университетов и институтов Российской академии наук, как в 1990‐е годы случился массовый отток агентов и ресурсов из РАН, как на этом фоне сформировалось новое противостояние «старых» и «новых» университетов, как западные фонды переструктурировали институциональное пространство, инсталлировав новые практики научного производства [Батыгин 2000]. В случае отечественной социологии мы сможем объяснить, к примеру, как сформировался новый класс социологов-теоретиков, как их противостояние с эмпириками перешло в активную фазу внутри «новых» университетов, и как – благодаря альянсу с «внешними» агентами – им удалось утвердить свое положение, в том числе и на рынке исследовательских проектов. Какое место в этой схеме будет отведено их теоретическим построениям? То же, что и в концептуализации города, – дискурсам агентов. Я пишу этот текст – отрывая бурдьевистскую концептуализацию от бурдьевистской же эпистемологии [Бурдьё 2002], требуя смотреть на концептуальные схемы вне «породивших их социальных условий и отношений», – потому что принадлежу к определенному классу агентов, преследующих собственные интересы. И тогда моя книга не более чем ход, сделанный одновременно на двух досках: на поле науки, чтобы прирастить символический капитал, и на поле городских исследований – чтобы закрепить положение своей исследовательской команды. Даже сказка Андерсена «Принцесса на горошине» более не невинна (любопытная бурдьевистская реинтерпретация этой сказки была предложена М. Генковой [2] «Вспомним сказку „Принцесса на горошине“. Здесь существует, с одной стороны, модализированное доксическое отношение (дистанция между хабитусом и хабитатом), а с другой стороны, ясно сформулированный и старательно подготовленный „практико-логический эксперимент“. Для того чтобы стала возможной предикация „Она – настоящая принцесса“, нужно определить [социальные] условия возможности этого суждения» [Генкова 2000: 67].
).
Описывая возникающее расслоение, поглощение «старых» университетов «новыми», замещение и депортацию (за пределы институционального пространства) одних агентов другими, бурдьевист проанализирует науку в той же системе различений, что до этого анализировал город. За наукой последуют литература, право, религия, спорт. Свойство трансферабельности делает возможным расширение списка объясняемых феноменов практически до бесконечности, включая в него даже саму объясняющую схему.
И вот здесь происходит сбой. Трансферабельность – это то, что позволяет нам переносить модели мышления из исследований этничности в исследования техники, из исследований религии – в исследования города, из исследований языка – в исследования права. Однако именно из‐за такой неспецифичности и «всеядности» языков описания они со временем утрачивают свою объяснительную силу. Отсюда основной драйв написания этой книги.
Мы не можем отказаться от требования концептуализации и вернуться к блаженной невинности синтагматического нарратива урбанистов («Город – это и люди, и машины, и здания, и еда, и мусор, и мэр, и анонимность, и эпидемия, и турникеты в метро…»). Но имеющиеся у нас в запасе инструменты воображения стремительно приходят в негодность. Мы по инерции пользуемся системами различений и языками описания, которые производят типовые образы объекта (подобно типовому жилью в Советском Союзе). Чтобы вырваться из этого порочного круга, нужно попробовать научиться «мыслить город иначе», обратившись к новым теоретическим интуициям.
Контингентность города: «способность быть иным»
Даже сама реальность относительна к схеме: то, что считается реальным в одной системе понимания, может не считаться таковым в другой.
Д. ДэвидсонПосмотрим еще раз на процитированный выше тезис Бурдьё:
Следовательно, столица не может мыслиться иначе, как в отношении с провинцией, которая не располагает ничем иным, кроме лишения (относительного) и столичности, и капитала.
«Не может мыслиться иначе» здесь – ключевое высказывание. Действительно, нельзя сказать «столица» и не сказать «провинция», без одного не может быть другого. Но, согласившись с тем, что «столица» не может мыслиться в отрыве от «провинции», мы только что автоматически согласились с тем, что «провинция» не может мыслиться иначе как «лишенная столичности и капитала». Создание видимости отсутствия альтернатив – проверенный, но весьма ущербный ход, к которому главный архитектор Бурдьёполиса прибегает по нескольку раз в каждой книге. Вспомним еще одно процитированное выше высказывание:
То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально размеченным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе (курсив мой. – В. В.) как через абстракцию (физическая география), т. е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, являясь обитаемым и присвоенным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: