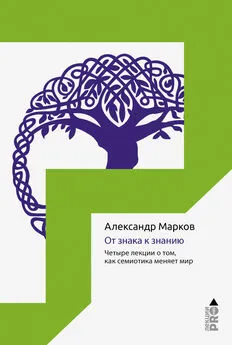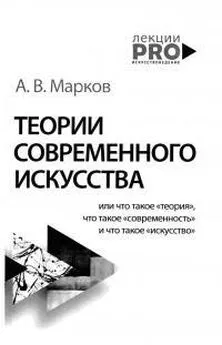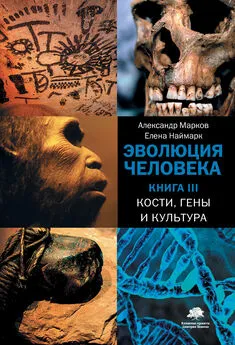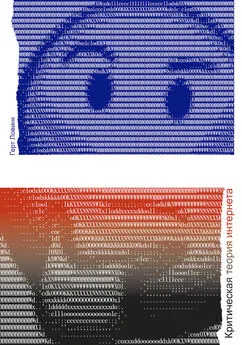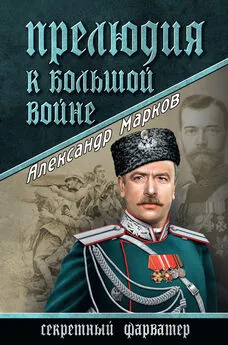Александр Марков - Критическая теория
- Название:Критическая теория
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-386-14506-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Критическая теория краткое содержание
Автор представляет курс лекций о критической теории, важном междисциплинарном течении XX–XXI вв. Особое внимание в курсе уделено социологии, эстетике и теории медиа.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Критическая теория - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В русской литературе за полтора столетия до Спивак эта проблема освещена в рассказе И. С. Тургенева «Муму», где и показан угнетенный, который не говорит. Школьники часто спрашивают, почему, если Герасим не был согласен с приказом барыни утопить собаку и решил уйти, он выполнил ее приказ, а не ушел вместе с любимой собакой, что было бы разумнее. Да потому что у него не было языка, который, например, связал бы свободу и собственность, свободу от барыни и обладание собакой как две части одного счастья – в соответствии с классическим либерализмом. У него не было понятий, на которых строится гражданское общество, и хотя он любил собаку на уровне чувств, на уровне практик он воспроизвел предначертанный барыней сценарий, потому что никакого другого языка практик и никаких других практик у него в уме просто не было. Он не мог сформулировать слова или выражения, которые помогли бы ему поступить как свободному человеку: вся система понятий у него была от барыни, приобретенная в ходе служения ей, и, даже уйдя от барыни, он продолжал ее воспроизводить. Поэтому, хотя его чувственность требовала бунта, он не смог эту чувственность облечь в слова и понятия.
Любая критическая теория исходит из нехватки языка, из того, что угнетенным не хватает языка, но и угнетатели часто используют жесты насилия, а не язык. При этом резкая нехватка языка может возмещаться развитием институтов, объединяющих людей или позволяющих им вместе действовать, – вспомним жанр пасторали, который представляет собой очень регламентированный рассказ о пастушеской жизни: пастухи мало о чем могут сказать развернуто, но эта неразвитость речи заменена развитыми сценариями действия, большой театральностью этой пастушеской жизни. Подразумевается, что какие-то из этих сценариев могут быть заимствованы если не реальными пастухами, то хотя бы хозяйственниками в городе.
Эмиль Бенвенист, великий лингвист XX века, возводил к нехватке языка даже самые простые институты, как институт собственности: мы не можем образовать именительный падеж от слова «себя», но можем заявить о себе как о собственниках, практиками хозяйства заменяя недостаток способов определить, что и как мы можем сделать. При этом ритуалы могут иногда предшествовать словам, так, один из первых британских неомарксистов Эдвард Палмер Томпсон в книге «Создание британского рабочего класса» (1963) показал, что мало что объединяло портовых рабочих, разорившихся крестьян, мелких подмастерьев и фабричных наемных тружеников и превращение этих очень непохожих групп в «рабочий класс» состоялось благодаря социальным ритуалам, как навязанным эксплуататорами (работа по расписанию), так и противопоставленным им (встреча в пивной или забастовка).
Здесь, правда, можно возразить, что эти противопоставленные ритуалы связаны скорее с точки зрения эксплуататора, которому кажется, что собравшиеся в пивной рабочие непременно начнут бастовать. Другой историк-неомарксист, Эрик Хобсбаум, в книге «Бандиты» (1969, рус. пер. 2020) выявил, как различные неформальные практики, вроде охраны скотоводов или соперничества с государственными сборщиками налогов, были сначала объединены понятием бандитизма, а потом привели и к усилению действительно преступных действий этих групп, например убийству тех, кого подозревали в предательстве – заимствование языка угнетателей привело к усилению угнетения в самих группах.
Впрочем, язык угнетателей тоже менялся, как показал Даниэль Хеллер-Розен в книге «Враг всех: пиратство и национальное право» (2009); согласно этому исследователю, принципиальная несовместимость пиратства как однозначного зла с мирной жизнью приводила к эволюции социальных идей среди тех, кто боролся с пиратами: если в Средние века пиратов считали скорее извергами, отверженными, врагами людей, то в эпоху Просвещения их начинают считать врагами всех и всего порядка, иначе говоря, формируется представление о «социальном целом», в том числе благодаря успешной борьбе с пиратством.
Следующее поколение таких историков, представляющих уже «микроисторию», Роберт Дарнтон или Карло Гинзбург, еще увлеченнее стало говорить, как отсутствие политического языка компенсировалось разными жестами, а не созданием разработанного языка. Например, Дарнтон рассмотрел, как подмастерья превратились из младших членов семьи хозяев в пролетариат благодаря ритуалу наказания хозяйской кошки, то есть какое-то хулиганство объединило их в сообщество. Правда, критики Дарнтона указывают, что сам этот рассказ об избиении кошек известен из одного источника и вполне может выражать какую-то тенденциозную позицию, и вряд ли нужно считать подмастерьев такими уж безъязычными, раз их практики включали в себя в том числе речевое общение.
Сразу надо сказать, что марксистское понятие «практика», или в старых переводах Маркса – «деятельность», не следует понимать в смысле «накопленный опыт», а в более философском смысле. Как указывают исследователи, в частности Этьен Балибар и Барбара Кассен в «Европейском словаре философий», слово праксис у Аристотеля означает скорее «поступок», чем просто действие, потому что оно меняет не столько окружающий мир, в отличие от пойесиса , творчества, сколько самого совершающего поступок – например, поступок поддерживает благополучие ситуации, благополучие общей жизни и тем самым благоденствие или чистую совесть совершающего поступок. М. М. Бахтин в своем раннем неоконченном произведении «Философия поступка» ввел удачный термин «поступление», который хорошо выражает начальный смысл слова «праксис» – такое действие, в котором человек не просто совершает поступок, но становится совершающим этот поступок, становится другим человеком. Поэтому праксис у Аристотеля не противопоставляется теории или знанию, а, наоборот, сопоставляется с ними. Неразрывность теории и практики, о которой говорит любой извод марксизма, восходит тем самым к Аристотелю.
Употребив слово «практики» во множественном числе, мы вышли к третьей особенности любых критических теорий, после отношения к знанию и языку . Критическая теория никогда не говорит «знание», «культура», «политика», «практика», но все во множественном числе – «знания», «культуры», «политики», «практики». Такое употребление множественного числа исходит из того, что невозможно свести поведение сколь-либо сложной системы к уже известным данным об этой системе. Всякий раз конфигурация той системы знаний или действий, с которой мы имеем дело, оказывается составлена во вполне определенной ситуации: ее параметры мы можем с определенной степенью достоверности установить, и тем самым понять и то, почему конфигурация стала работать именно так, а не иначе. У нас иногда даже слишком усердствуют с этим множественным числом, что, наоборот, некритически перечеркивает критическую теорию, например когда говорят «современные художники создают смыслы», под смыслами понимая какие-то придумки и тем самым присваивая творческие решения системе капиталистического производства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


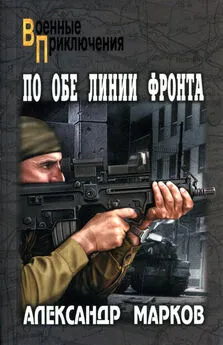

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)