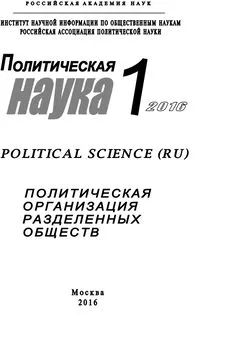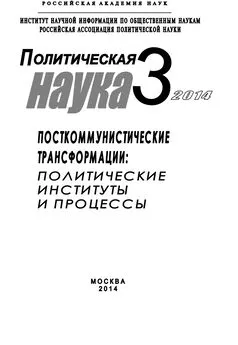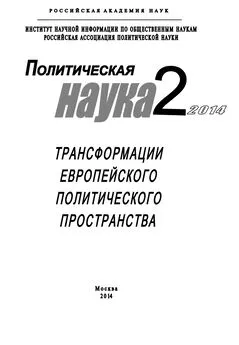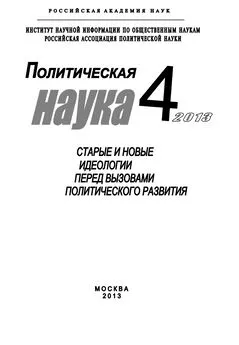Array Коллектив авторов - Политическая наука №3 / 2015. Социальные и политические функции академиических и экспертных сообществ
- Название:Политическая наука №3 / 2015. Социальные и политические функции академиических и экспертных сообществ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Политическая наука №3 / 2015. Социальные и политические функции академиических и экспертных сообществ краткое содержание
Политическая наука №3 / 2015. Социальные и политические функции академиических и экспертных сообществ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пожалуй, главный парадокс первой модели состоит в том, что точка зрения о предназначении исследователей снабжать власть политико-идеологическими аргументами неизбежно наталкивается на расплывчатость дискурсивных границ современного государства, и Россия не является в этом плане исключением. Например, во многих случаях сложно установить, делается то или иное заявление от имени государства, или же оно является мнением эксперта, состоящего на государственной службе, но не представляющего государство. Под воздействием большого числа факторов, так или иначе связанных с глобализацией, современное государство децентруется и регулярно освобождает себя от тех функций, которые могут быть более эффективно использованы квази- либо окологосударственными институтами. Хорошим примером в этом плане являются немецкие партийные фонды, использующие для своей деятельности по всему миру государственные деньги, но имеющие большую свободу рук при определении формата и приоритетов своей работы. В наиболее радикальном варианте мысль о расплывчатости границ трансформируется в представление о государстве как о «дискурсивном симулякре, знаке без референта» [Selby, 2007, p. 329].
Для нашего анализа это означает, что государство не столько производит политически значимые смыслы, сколько их присваивает и управляет ими. Швейцарский исследователь Филипп Казула [Casula, 2013] уловил важную отличительную особенность нынешнего российского режима: национальный лидер – это фигура, парадоксальным образом стоящая вне политики, т.е. не нуждающаяся в рутинных публичных процедурах для регулярного подтверждения своей легитимности, включая, например, участие в полноценных политических дебатах. Путин, по версии Ф. Казулы, – это «пустой означающий», т.е. символ, не привязанный к определенному смыслу. С одной стороны, он понимает, что демократический дискурс – это способ «пристегивания» России к Западному ядру современного мирового порядка. Но, с другой стороны, эта кажущаяся универсальность тут же подрывается тезисом о том, что каждая демократия специфична и не нуждается во внешней легитимации, что приводит к наполнению «пустого означающего» консервативно-националистическими идеями. Соответственно, В. Путина нет смысла обвинять в непоследовательности или отсутствии сущности – это не только его сознательная линия, но и источник его власти, поскольку она дает ему возможность ситуативно определять политическую грань, отделяющую легитимное от нелегитимного, «свое» от «чужого». Все ключевые концепты, используемые Кремлем – «фашисты», «Европа», «русский мир», «евразийская цивилизация» и пр., – являются дискурсивными конструктами, которыми Кремль манипулирует при проведении своей политики.
Такая подвижность политической семантики вызывает у многих исследователей ассоциации с пустотой как с онтологической категорией, описывающей российское бытие как лишенное центра, т.е. консенсусно понимаемых смыслов, более или менее устойчивых идентичностей, норм и ценностей [Gunter, 2013, p. 105]. Многиe авторы ставят под сомнение укорененность любых идеологических форм в сегодняшней России. На примере того, что Кремль и привлекает националистов для поддержки своих проектов, и одновременно подавляет национализм, Люк Марч делает вывод о том, что у правящего режима нет устойчивой идеологии. Перед лицом идеологических вызовов Кремль часто занимает «глубоко административную позицию» [March, 2012, p. 402]. Идеология для него – это один из способов легитимации отношений власти. Причем эта идеология – парадоксальным образом – постполитична в том смысле, что она базируется на артикуляции своих позиций как самоочевидных, естественных и не требующих доказательств. Любопытно в этом контексте смотрятся ссылки Л. Марча на Карла Шмитта [см.: March, 2012, p. 409]: их можно понять в том смысле, что глубокие акценты на фигурах «врагов России» в путинском дискурсе объясняются не столько политизацией этого дискурса, сколько, наоборот, – желанием создать для него комфортные постполитические ниши, в которых он не вступал бы в прямое столкновение со своими оппонентами. В этой логике за государством закрепляется некая «надполитическая» роль, основанная на убеждении в том, что единственным легитимирующим основанием политики является не рациональность решений, а эмоционально поддерживающее ее большинство [Larson, Shevchenko, 2014, p. 269–279].
Элементом, подчеркивающим зависимость официального дискурса от изначально внешних по отношению к государству публичных нарративов, стала феноменальная популярность в российской политической элите теорий заговора. Oккультная и конспирологическая литература стала нормой в российских книжных магазинах. Конечно, «темные тайные силы» существуют в массовом общественном сознании и на Западе, но они редко интегрируются в доминирующий дискурс, оставаясь на его обочине и принимая скорее протестную форму [Raikka, 2009, p. 185–201]. В России же конспирология стала частью гегемонистского, т.е. доминирующего в официальных кругах, дискурса, который внутри себя порождает огромное количество того, что я бы назвал трэш-дискурсами. Их сложно классифицировать по относительно устоявшимся в науке критериям, поскольку они представляют собой смесь воображения, иррациональности и имперского мессианства [Шнирельман, 2012, с. 107].
Mногие из «заговорщических» идеологем придуманы не в Кремле, а за его пределами, и их достаточно сложно типологизировать, на что указывает немецкий исследователь Андрэас Умланд: например, для него Александр Дугин – и «правый грамшист», и консерватор, и фашист [Умланд, 2012, c. 401–407]. А. Умланд верно подметил метаполитическое начало в той социальной функции, которую выполняет этот персонаж. Если понимать метаполитику в категориях Жака Рансьера и Славоя Жижека, то мы увидим здесь любопытный парадокс: А. Дугин, являющий собой один из ярчайших примеров подавления академического дискурса политико-идеологическим, подспудно тяготится этим политическим обременением. Соответственно, он пытается перевести свой дискурс в сферу неких консенсусно принимаемых «истин», базирующихся на категориях, якобы не нуждающихся в обсуждении. С моей точки зрения, эта тенденция характерна отнюдь не только для А. Дугина – метаполитическим (в более широком смысле – постполитическим) становится весь гегемонистский дискурс Кремля: он претендует не на победу аргументов в их публичном состязании, а на технологию вертикального навязывания идеологем, не признающих себе альтернативы. Этот «псевдореализм» в качестве своего эффекта порождает типичные идеологемы, преимущественно имперские [Laruelle, 2012], чем активно пользуется государство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: