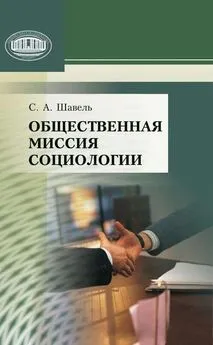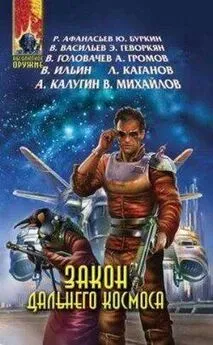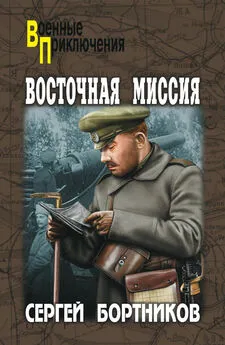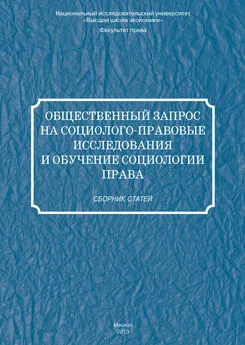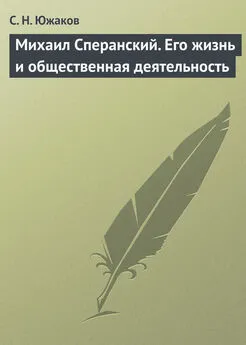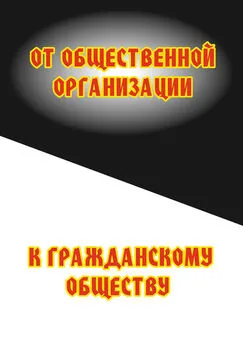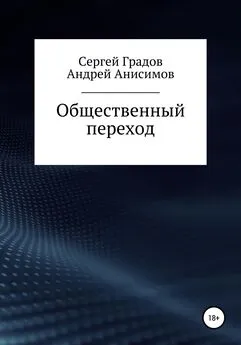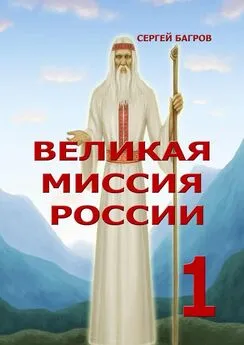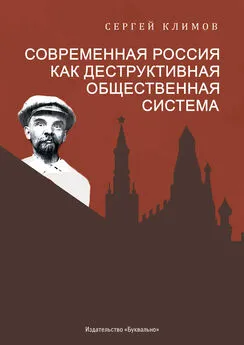Сергей Шавель - Общественная миссия социологии
- Название:Общественная миссия социологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Белорусская наука»
- Год:2010
- Город:2010
- ISBN:978-985-08-1210-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Шавель - Общественная миссия социологии краткое содержание
Адресована социологам-исследователям, студентам и аспирантам социогуманитарного профиля, специалистам социальной сферы, маркетологам и управленцам, идеологическим работникам, всем, кто хотел бы использовать социологические данные для понимания и прогнозирования динамики общества, для разрешения конфликтных ситуаций и принятия обоснованных решений с учетом обратной связи с населением.
Общественная миссия социологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
М. Вебер: предмет убеждений – ценности.М. Вебер обращается к проблематике убеждений в разных работах, посвященных анализу профессионального призвания, мотивации социального действия, объективности социогуманитарного познания, «наук о культуре» и др. Так, рассматривая некоторые особенности американской системы образования по сравнению с европейской, он отмечает: «О своем учителе американский юноша имеет вполне определенное представление: за деньги моего отца он продает мне свои знания и методические принципы точно так же, как торговка овощами продает моей матери капусту. И точка. Молодому американцу никогда не придет в голову покупать у него «мировоззрение» или правила, которыми следует руководствоваться в жизни» [62] Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 727–728.
. Понятно, что если отношения в системе «ученик – учитель» строятся по схеме купли-продажи прикладных знаний, то все, что касается воспитания личности, выносится за скобки, – и в смысле запросов ученика (родителей), и как достойные оплаты усилия учителя. Вебер отвергает столь грубую форму позиционирования, но он не согласен и с претензией некоторых европейских учителей, «указывающих, как надо жить», тем более в ущерб целям изучения конкретного учебного материала. За последние годы «рыночность» интеракций в этой сфере расширилась и продвинулась в постсоветские страны. В России и других странах СНГ появились покупатели дипломов и званий, имиджа и репутаций, голосов и рукописей, чести и дружбы и т. д. Но все-таки торговля духовными ценностями, достоинством человека (особенно «торговля людьми») не стала и никогда не станет легальным бизнесом, даже в странах классического капитализма. Этому противятся нравственные принципы, нормы религиозной морали, чувство справедливости, эмпатия, совесть – все то, что образует этическую матрицу человеческой культуры и личного мировоззрения, ядром которого выступают убеждения. Но не все так просто. Ультра-либералы, абсолютизируя принцип laissez faire – невмешательства, вольно или невольно дискредитируют традиционную мораль, простые общечеловеческие нормы нравственности, разрушают основы протестантской этики, социальное учение католической церкви, проникают в православие и другие конфессии. В начале ХХ в. Вебер констатировал: «В настоящее время дух аскезы – кто знает, навсегда ли? – ушел из этой мирской оболочки. Во всяком случае, победивший капитализм не нуждается более в подобной опоре» [63] Вебер М. Избр. произв. С. 206.
. Под «аскезой» здесь понимается не отказ от радостей жизни, которые каждый видит по-своему, а ограничение «фаустовской многосторонности» рамками профессии, а значит, умением «властвовать собой», как наставлял Онегин Татьяну. Неслучайно нынешний Папа Бенедикт XVI еще в 1990-е годы предупреждал: «Отсутствие моральной дисциплины, являющейся продуктом глубоких религиозных убеждений, может привести к краху законов рынка».
Современный мировой кризис подтвердил эти опасения, хотя в числе мер по его преодолению и профилактике на будущее пока нет даже намека на этико-мировоззренческие факторы – все в очередной раз замкнулось на деньгах. Однако с точки зрения перспективы первостепенное значение имеет утверждение в планетарном сознании следующего канона: рынок не должен не только превышать установленные юридическим законом границы, что очевидно и иногда наказуемо, но и заходить в сферы, табуированные самой природой человека, моральным чувством и религиозными заповедями, его убеждениями. Скажем, коррупционер, торгующий предоставленным ему правом принятия решений (конечно, для общего блага), не только нарушает уголовный закон (иногда закона просто нет), но и извращает древнейший реципрокный антропологический принцип взаимопомощи: «Ты – мне, я – тебе». Тем самым он отказывается от экзистенциального убеждения, что он есть человек, ecce homo. Конечно, такой субъект плохо воспитан, но кто слышал в этой связи упреки учителю в отличие от тех случаев, когда речь идет о малолетних преступниках. Он из числа тех, кто и не хотел «покупать мировоззрение», – так, наверное, ответил бы учитель. Парадокс в том, что именно о хороших «предметниках», а не о любителях нравоучений бывшие ученики отзываются прежде всего как об «учителях жизни». Вебер затронул вечную проблему образования, как средствами конкретного учебного предмета: арифметики, чистописания или географии и др., так и личным примером, ибо иного не дано, – передать не только ЗУНы (знания, умения, навыки), но и убеждения, мировоззренческие установки, ценностное понимание жизни.
В обсуждении данной проблемы и сегодня заслуживают внимания некоторые методологические подходы, намеченные Вебером. Анализируя политику как призвание и профессию, он вводит две максимы, на которые может быть ориентировано политическое действие: «этику убеждения» и «этику ответственности». Их различение, по его словам, проводится «не в том смысле, что этика убеждения оказалась бы тождественной безответственности, а этика ответственности – тождественной беспринципности. Об этом, конечно, нет и речи» [64] Вебер М. Избр. произв. С. 697.
. Имеется в виду, что действующий по убеждению, например, христианин, «поступает, как должно, а в отношении результата уповает на Бога» [65] Там же.
. В отличие от него ориентированный на максиму ответственности (если допустить, что стойких убеждений у него нет) понимает, что «надо расплачиваться за (предвидимые) последствия своих действий». Крайние проявления этих максим контрпродуктивны для дела и ущербны для их носителей. Если, например, убежденный пацифист снимает с себя ответственность за защиту Отечества и своих близких [66] М. Вебер неоднократно приводит слова Макиавелли о флорентийцах в период борьбы против интердикта (запрета служб, обрядов) Папы Григория ХI: «Ибо граждане в то время более заботились о спасении отечества, чем своей души» (Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987. С. 112).
, то беспринципный конъюктурщик будет бесконечно высчитывать, что ему выгоднее предпринять, чтобы уйти от ответственности. «В человеческом смысле, – отмечает Вебер, – меня это не очень интересует и не вызывает никакого потрясения» [67] Там же. С. 704.
. Потрясение может вызвать тот, кто «действует сообразно этике ответственности и в какой-то момент говорит: «Я не могу иначе, на том стою» [68] Там же. С. 705.
. Эти слова Лютера стали нарицательными при оценке твердости принципов, убежденности в своей позиции. Что касается тех, кто выпячивает свои убеждения, то Вебер признается: «Скажу открыто, что я сначала спрошу о мере внутренней полновесности, стоящей за данной этикой убеждения; у меня создалось впечатление, что в девяти случаях из десяти я имею дело с вертопрахами, которые не чувствуют реально, что они на себя берут, но опьяняют себя романтическими ощущениями» [69] Там же. С. 704.
. Вебер имел в виду некоторых деятелей Веймарской республики, провозглашенной 9 ноября 1918 г. после поражения Германии в Первой мировой войне, которая (республика) вовлекла в политическую деятельность многих новых людей. В связи с этим «внезапно наблюдается массовый рост политиков убеждения», полагающих, что «ответственность за последствия касается не меня, но других» [70] Там же.
.
Интервал:
Закладка: