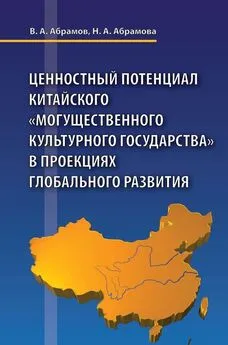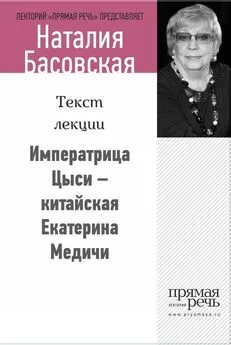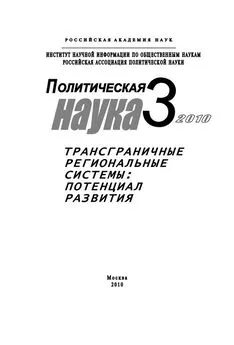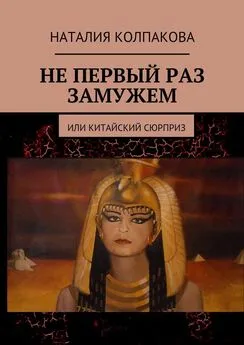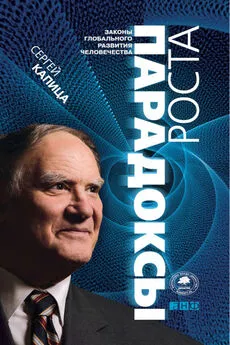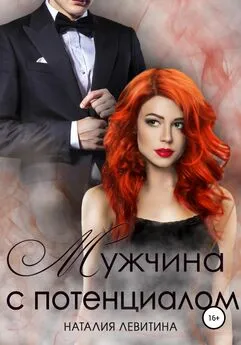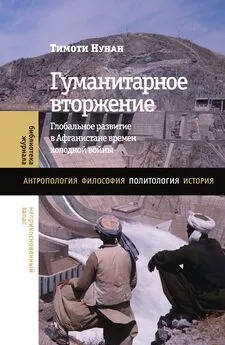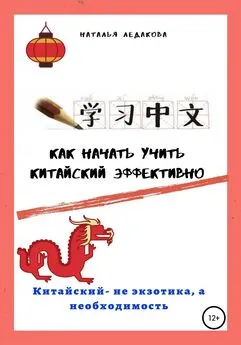Наталья Абрамова - Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» в проекциях глобального развития
- Название:Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» в проекциях глобального развития
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Восточная книга»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7873-0846-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Абрамова - Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» в проекциях глобального развития краткое содержание
Издание выполнено в контексте политической философии, предназначено для востоковедов, политологов, регионоведов, специалистов-международников, а также для широкого круга лиц, интересующихся проблемами развития России и Китая.
Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного государства» в проекциях глобального развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В связи с этим В. Е. Кемеров прогностически полагает, что именно субъективность человеческих индивидов, а не их присутствие в социальности, редукция их жизни и деятельности оказываются решающими факторами обновления социальных форм жизни. «Обращение практиков и теоретиков к идеям качества жизни и деятельности было косвенным указанием на то, что время редуцированных (до уровня “зубчиков” и “винтиков” социальной машины) человеческих ресурсов проходит и речь теперь пойдет об обнаружении (культивировании) этих ресурсов именно в субъектных взаимодействиях людей». [65] Кемеров В. Е. Полисубъектная социальность и проблема толерантности // Толерантность и полисубъектная социальность. – Екатеринбург, 2011. – С. 15–16.
Одним из возможных методологических ресурсов, способствующих разрешению сложившихся познавательных трудностей, по мнению А. Е. Смирнова, является разработка теории субъективации. Она позволит, например, создавать теоретические модели, в которых собственные характеристики социальных субъектов не являются производными или имплицитными, а сами субъекты не рассматриваются как самотождественные точки пересечения социальных и структурных влияний. Субъективация, – считает российский исследователь, – есть становление субъекта, или становящаяся субъективность. «Процессы субъективации есть то, что противостоит классической фигуре субъекта как ставшего и замкнутого, абстрактного и самотождественного». [66] Смирнов А. Е. Процессы субъективации: теоретико-методологические аспекты. – Иркутск: НЦ РВХ СО РАМН, 2011. – С. 5.
Деятельность, взаимодействие с объектом, его нормализующим, определяется не только познающим субъектом, а и самим уникальным способом существования объекта, его состояниями и конкретным характером его взаимодействий. В постнеклассической философии это понимание оформилось в виде познавательного принципа, обозначенного В. Е. Кемеровым как «принцип другого»: «Другой оказывается условным обозначением того потенциального многомерного объекта, по меркам которого выстраиваются модели взаимодействия людей друг с другом и с природными системами». Поэтому, по мнению В. Е. Кемерова, «субъект» не является ни абстрактным, ни целостным, ни универсальным, а его субъективные функции опознаются до тех пор, пока он вырабатывает и воспроизводит способы взаимодействия с объектом. [67] Кемеров В. Е. Классическое, неклассическое, постнеклассическое. Современный философский словарь / Под общ. ред. д. ф. н., проф. В. Е. Кемерова. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон – Франкфурт-на-Майне – Париж – Люксембург – Москва – Минск: Панприт, 1998. – С. 404.
Ю. Качанов предлагает вообще отказаться от субъекта как основополагающей достоверности познания той конечной субстанции, «…которая обеспечивает деятельное и неразрывное единство опредмеченного (производимого в научных практиках) и распредмеченного (логики предмета исследования, которая из него извлекается и становится достоянием агента научного производства)». [68] Качанов Ю. Начало социологии. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 33–74.
Трансформирующееся представление о феномене субъекта и его деятельности, практике субъективации, актуализирует значимость деятельностного подхода. Вопрос практической деятельности, практики субъективации представляет один из важнейших аспектов познавательной проблемы самотрансформации человеческого бытия. Как любая практическая деятельность, процесс самотрансформации субъектных сил связывает потенциальные и актуальные аспекты совместной и индивидуальной жизни людей. Новые представления социального бытия как многомерного движения и взаимодействия различных форм опыта наполняют своим содержанием и деятельностный подход.
Рассматривая особенности гуманитарного знания в сборнике «Наука глазами гуманитариев», авторы нескольких статей из его раздела III «Человек как предмет знания: деятельностный подход, компьютерная метафора, историческое знание» уделили самое серьезное внимание именно деятельностному подходу. [69] Наука глазами гуманитариев / Отв. ред. В. А. Лекторский. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 688 с.
Это было обусловлено и тем, что уже в 60–80-е годы XX в. формирование многих отраслей гуманитарного знания (от философии науки до философской антропологии) представлялось только в рамках деятельностного подхода. Ему отдавали предпочтение Э. В. Ильенков, Г. С. Батищев, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий, Ф. Т. Михайлов, Э. Г. Юдин и др. Так, В. А. Лекторский в статье «Деятельностный подход: кризис или возрождение» подчеркивает, что этот подход имеет не только смысл, но и перспективу. [70] Наука глазами гуманитариев / Отв. ред. В. А. Лекторский. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – C. 329.
Существенно расширяют варианты деятельностного подхода развитые в философии XX в. философские концепции деятельности марбургской школы неокантианства, прагматики языка Л. Витгенштейна, операциональная теория интеллектуальных действий Ж. Пиаже, франкфуртская школа и теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Философские концепции, которые базировались на идее субъективной деятельности, представлены, по мнению В. А. Лекторского, гораздо шире и богаче, чем на других подходах.
В. А. Лекторский уделил внимание и психологическим концепциям, которые в свое теоретическое основание также заложили понятие «деятельность». Это касается прежде всего работы С. Л. Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности» (1922), в которой субъект традиционно определяется своими деяниями.
Вторым вариантом психологической концепции, обратившейся к определенной интерпретации деятельности субъекта, была концепция А. Н. Леонтьева и П. Я. Гальперина. Но деятельность здесь также представлялась как индивидуальная в системе отдельных действий, где внутренние (собственно психологические) действия трактовались как интериоризация внешних действий.
В работах В. В. Давыдова трансформировалось новое понимание социальной деятельности как «коллективной» и «коммуникативной». Индивидуальные действия интерпретировались уже не как перенос из внешнего плана во внутренний, а как индивидуальное «присвоение» коллективной и коммуникативной деятельности. Поэтому В. А. Лекторский особо подчеркнул ценность такой коммуникативной трактовки «деятельности» как «взаимодействия свободно участвующих в процессе равноправных партнеров». [71] Наука глазами гуманитариев / Отв. ред. В. А. Лекторский. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – C. 328.
Продуктивной для нашего исследования оказалась и статья В. С. Швырёва «Деятельностный подход к пониманию “феномена человека” (попытка современного осмысления)», в которой он обстоятельно анализирует споры, развернувшиеся в советской (российской) философии в 60–80-е годы XX в. Автор расширяет аргументы в пользу принятия этого универсального и специфического способа социального бытия человека, подчеркивая, что идея «деятельности» в объяснении социокультурных норм с самого начала была направлена против натурализма, исходила из примата этих норм в отношении человека к миру и стремилась постичь не только усвоение социокультурных норм, но и их создание. В противовес идее витального поведения идея «деятельности» делала акцент на самоизменении, трансформации и самосовершенствовании человека, становлении субъектом, становящейся субъективности. Существенны и те деятельностные трансформации, которые предложены В. С. Швырёвым: его различение внутрипарадигмальной деятельности и деятельности по созданию новых программ действия, новых социокультурных ценностей и парадигм. С последним типом деятельностной субъективности он связывает целеполагание, открытость, предприимчивость, управление, творческие инновации и т. д.. [72] Наука глазами гуманитариев / Отв. ред. В. А. Лекторский. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – C. 371.
Интервал:
Закладка: