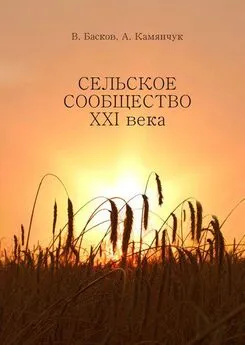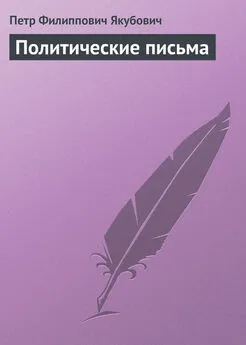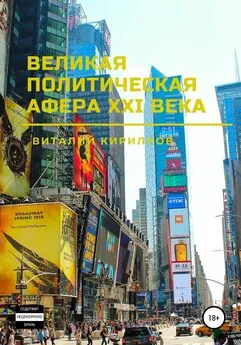Петр Панов - Политическая наука № 3 / 2012 г. Политические режимы в XXI веке: Институциональная устойчивость и трансформации
- Название:Политическая наука № 3 / 2012 г. Политические режимы в XXI веке: Институциональная устойчивость и трансформации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Агентство научных изданий»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:2012-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Панов - Политическая наука № 3 / 2012 г. Политические режимы в XXI веке: Институциональная устойчивость и трансформации краткое содержание
Для исследователей-политологов, преподавателей, аспирантов и студентов.
Политическая наука № 3 / 2012 г. Политические режимы в XXI веке: Институциональная устойчивость и трансформации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 1 1 Статья написана в рамках проекта Программы фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ (ТЗ63) «Государственная состоятельность как предпосылка демократии? (Эмпирический анализ взаимосвязи типов государственной состоятельности и траекторий режимных трансформаций в странах “третьей волны демократизации”)».
Недемократические политические режимы попадали в фокус исследований сравнительной политологии в рамках теорий модернизации, распадов авторитаризма и транзитов к демократии. В конце 1990‐х годов политологи стали изучать особенности функционирования политических институтов в недемократических режимах и их влияние на режимные трансформации. Родоначальницей сбора данных по авторитарным режимам стала Барбара Геддес. Исходя из убеждения, что «авторитарные режимы отличаются друг от друга не меньше, чем они отличаются от демократии» [Geddes, 1999, p. 121], она заложила основу для систематического анализа недемократических режимов и их изменений. Начиная с 1980‐х годов и по настоящее время в мейнстриме исследований недемократических режимов преобладает волюнтаристский подход (Б. Геддес, Б. Магалони, Дж. Ганди, А. Пшеворский). Недемократические институты создают ограничители для акторов, которые должны либо действовать в существующих рамках, либо изменять институты для достижения своих интересов. Стабильность режимов обеспечивается определенным политическим эквилибриумом, созданным институтами.
Еще в конце 1990‐х годов Махони и Снайдер отметили, что эволюция институтов является пропущенной переменной в исследованиях режимных изменений [Snyder, Mahoney, 1999]. Однако до сих пор подход исторического институционализма, показывающий, как устойчивость режима связана определенными зависимыми траекториями с его истоками и как критические развилки предопределяют дальнейшую эволюцию (Дж. Браунли, Ч. Тилли, Б. Смит), распространен в меньшей степени и используется для качественных казусно-ориентированных исследований.
Данная статья посвящена рассмотрению основных типов недемократических политических режимов и возможностей их изменений с точки зрения действий и рационального выбора основных акторов режима. Статья базируется на типологии Б. Геддес, которая группирует режимы по типу акторов, принимающих ключевые решения: партия – в однопартийных режимах, армия – в военных, лидер единолично – в персоналистских.
В однопартийных режимах решения принимаются не непосредственно лидером, а высшим органом партии (центральным комитетом, политбюро, партийным съездом), а лидер в этой иерархии занимает высшее, но подотчетное место генерального секретаря партии, президента, выдвинутого партией. Власть сконцентрирована не в руках лидера, а у партийной элиты, и хотя лидер является первым среди равных во властной пирамиде, абсолютной власти у него нет. Это правомерно лишь для чистых типов однопартийных режимов без элементов персонификации власти (султанистских или неопатримониальных партийных режимов). Однопартийные режимы, в отличие от персонифицированных однопартийных, не только ограничивают власть лидера, но и легко решают проблемы преемственности власти.
Основными характеристиками однопартийных режимов у Б. Геддес являются несменяемость и получение партией более 2/3 голосов, что обеспечивает нахождение у власти [Geddes, 2004]. Под это расширенное определение попадают не только режимы с одной партией, но и формально многопартийные режимы, в которых доминирует одна партия или одна коалиция. Несмотря на легальное существование других партий, партия власти всегда выигрывает выборы в течение продолжительного периода и контролирует всю политическую сферу. В однопартийных режимах лидеры всегда ограничены в своих действиях необходимостью согласования всех шагов с партией. Рекрутирование элиты происходит только через партию, которая контролирует доступ к власти. Некоторые авторы разделяют режимы с одной партией и с доминирующей партией [Magaloni, 2008]. В последних все партии, кроме правящей, могут быть представлены в парламенте, однако часто они становятся сателлитами, фракциями или сторонниками правящей партии. Попытки операционализации режима с доминирующей партией сводятся к определению количества лет пребывания партии у власти – минимум 20 лет [Templeman, 2010, p. 11]. До достижения этого срока режим будет однопартийным в расширенном понимании. В однопартийных режимах и режимах с доминирующей партией лидер ответственен перед партией, и там и там схожи логика выживания и модели поведения акторов, поэтому в рамках данной статьи они будут рассмотрены вместе.
Однопартийные режимы и режимы с доминирующей партией появляются в результате следующих режимных изменений: во‐первых, «сверху» – из авторитарного режима другого типа, во‐вторых, «снизу» – из общества, в‐третьих – в результате распада многопартийной демократии. Трансформации режимов с доминирующими партиями в однопартийные режимы были характерны для постколониального развития Суб-Сахарного региона, обратные трансформации стали результатом четвертой волны демократизации [Magaloni, Kricheli, 2010, p. 130–133]. С точки зрения Б. Смита, создание доминирующей партии является ответной реакцией лидера на существование организованной оппозиции, наличие массовых мобилизационных партий или иных сил, способных создать угрозу режиму [Smith, 2005]. С. Хантингтон писал, что «стабильность однопартийных режимов определяется их истоками, а не характером… Чем интенсивнее борьба за власть, тем больше стабильность новой системы» [Huntington, 1968, p. 424].
Более 30 % авторитарных режимов с 1950 по 2010 г. были однопартийными [Geddes, 2006; Magaloni, 2008]. Анализ продолжительности существования недемократических режимов Б. Геддес демонстрирует, что самыми устойчивыми из трех чистых типов являются именно однопартийные режимы (25 лет) либо смешанные – с элементами однопартийности, военного правления и персонализма (23–30 лет) [Geddes, 1999, p. 133]. Исследование А. Хадениуса и Ж. Теорелля подтвердило большую продолжительность существования однопартийных недемократических режимов (18 лет) по сравнению с многопартийными режимами с доминирующей партией (10 лет) при наименьшей стабильности многопартийных режимов без доминирующей партии (шесть лет) [Hadenius, Teorell, 2007, p. 150]. При проведении подобных исследований следует иметь в виду наличие «долгожителей», таких как СССР (75 лет) и Мексика (72 года), увеличивающих результаты по всей выборке. Тэмплман, разделивший правящие партии на партии – основательницы режима с доминирующей партией и партии, пришедшие к власти в результате многопартийных выборов, пришел к выводу о том, что первые существуют в два раза дольше [Templeman, 2010, p. 26].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: