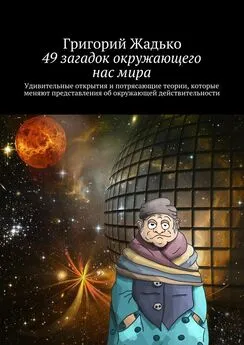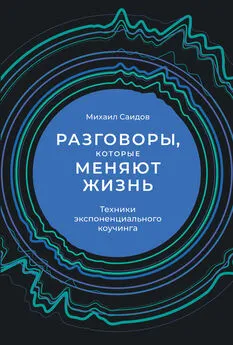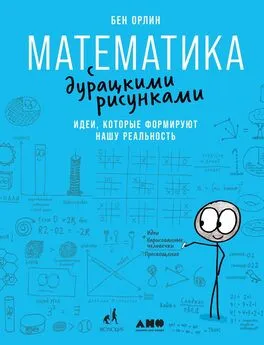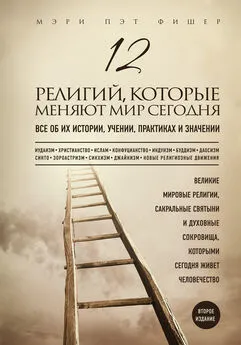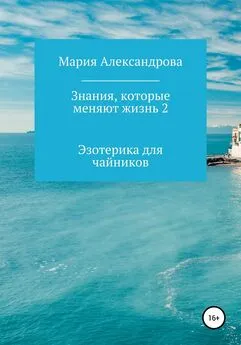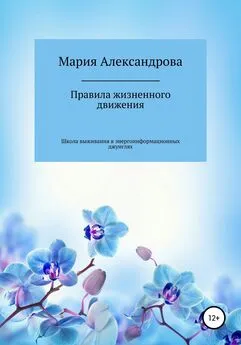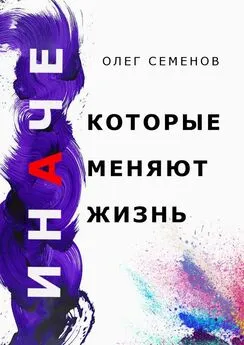Александр Бикбов - Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность
- Название:Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1330-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бикбов - Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность краткое содержание
Исследование охватывает время от эпохи общественного подъема последней трети XIX в. до митингов протеста, начавшихся в 2011 г. Раскрытие сходств и различий в российской и европейской (прежде всего французской) социальной истории придает исследованию особую иллюстративность и глубину. Книгу отличают теоретическая новизна, нетривиальные исследовательские приемы, ясность изложения и блестящая систематизация автором обширного фактического материала. Она встретит несомненный интерес у социологов и историков России и СССР, социальных лингвистов, философов, студентов и аспирантов, изучающих российское общество, а также у широкого круга образованных и критически мыслящих читателей.
2-е издание
Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, в международной конъюнктуре 1990-х годов имеются заметные исключения. Понятие «средний класс» не занимает здесь центр проектной активности, однако входит в кодифицированную официальную речь межгосударственных соглашений, где наделяется высокой символической ценностью. Важнейшим гравитационным центром, который выполняет одновременно осязаемую экономическую и символическую функцию в российском «переходе» 1990-х, выступают административные структуры «единой Европы». Европейский союз, который сам предстает материализованным понятием-проектом, к началу этого периода далеким от завершенной формы, по мере своей институциональной реализации действует как крайне активный агент влияния. Уже в 1990 г. евроинституции открывают программу поддержки рыночных преобразований в СССР, а в 1991 г. переучреждают ее как TACIS – программу «технической помощи» России и странам бывшего Советского Союза. В рамках программы финансируются институциональные реформы по «укоренению демократии и рыночной экономики» [100]. Формы активности амбициозно разнородны: от корректив модели государственного управления и переподготовки сотрудников Сбербанка до открытия нескольких экспериментальных пекарен вдалеке от столиц. Участие инстанций Европейского союза не ограничивается редизайном государственного аппарата и поддержкой пилотных экономических проектов. Одно из главных направлений – это европейская унификация категориальных систем СНГ: законодательства, национальной статистики, систем измерения. Эффекты влияния распространяются и за национальные границы, охватывая международные классификации и рейтинги. Именно структуры Евросоюза выступают источником признания России страной «с переходной экономикой» (1993) [101], как и ряда смежных квалификаций, которые переопределяют место страны в международных иерархиях.
Показателем прямого вклада проектной «единой Европы» в проектный российский «транзит» служит бюджет TACIS. В первые три года существования, с 1991 по 1993 г., он составляет 1,36 млрд экю [102], из них почти 500 млн – российская часть [103]. До 1998 г. на всех территориях бывшего СССР эта цифра вырастает втрое, почти до 3,8 млрд евро, из них на российские проекты в 1991–1998 гг. выделено 1,2 млрд евро [104]. Чтобы оценить масштаб этих европейских вложений, следует сравнить их с показателями российского государственного бюджета. Так, в кризисном 1998 г. эти расходы, если оценивать их по нижней границе, составляют примерный эквивалент государственного финансирования всего общего образования или государственных трат на железные дороги [105].
Каков проектный словарь европейского участия в российских институциональных и категориальных сдвигах? В учредительных документах и информационных брошюрах, выпускаемых под эгидой TACIS, мы снова не обнаруживаем прямого обращения к «среднему классу». В этот период сама модель «единой Европы» операционализируется в универсалиях «граждане», «жители», а также в отдельных профессиональных и образовательных категориях («работники», «студенты», «преподаватели», «свободные профессии» и т. д.), которые вписаны в риторику экономических свобод и кооперации [106]. Точно так же программа, обращенная к обществам бывшего Советского Союза, оперирует понятиями-проектами, которые редко нарушают тематические границы экономики: «экономический рост», «рыночная экономика», «развитие торговли и инвестиций», «приватизация», «сотрудничество в области экономики», «партнерство», «[транспортная и энергетическая] инфраструктура», «благоприятный климат», «экономическая модернизация», «политическая стабильность» [107]. Однако в 1997 г. российское и европейское правительства ратифицируют Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное уже в 1994 г., за которым следует очень интересная по своей терминологии европейская резолюция о будущих отношениях с Россией (1998). В ней мы находим красноречивую артикуляцию связи между политической стабильностью, свободами и рынком: «Стабильность на европейском континенте может быть достигнута в силу успеха экономических и демократических реформ в Российской Федерации, вместе с установлением в ней верховенства права и социальной сплоченности» или «Европейский Союз может сыграть позитивную роль в России, открывая ее рынки и поддерживая свободы». Наряду с этим, среди приоритетов деятельности Европейского союза в России, в документе названа «консолидация процесса демократизации в российском обществе посредством стимулирования центральной роли гражданского общества и появления среднего класса с целью предоставления прочной основы для демократии, верховенства права и уважения прав человека» [108]. Проектная роль, на которую здесь претендует европейская администрация, по своей амбиции сравнима с перспективными планами советского правительства, куда еще накануне исчезновения СССР включается «сбалансированное развитие процессов социальной интеграции и социальной дифференциации в обществе» [109]. Европейская резолюция становится, по сути, возвратом к понятийной модели Липсета на законодательном уровне.
Подобный пример – не единственный в официальном европейском корпусе речи. Двумя годами ранее, в записке о сотрудничестве Евросоюза с ЮАР, мы обнаруживаем схожую схему в контексте «открытия рынков» и «преодоления последствий дискриминации»: «Сотрудничество с малыми и средними предприятиями… открывает, при поддержке правительства, новые, простые и быстрые возможности для создания рабочих мест. Такое сотрудничество, помимо прочего, способствует созданию чернокожего среднего класса» [110]. Озабоченность последствиями экономического удара конца 1990-х годов по «городскому среднему классу» в контексте «устойчивого развития», «стабильности страны» и «укрепления демократии» выражена в другом европейском документе, на сей раз описывающем ситуацию в Индонезии (2000) [111]. Вопрос о том, получает ли эта серия официальных высказываний, и в особенности помощь в «появлении среднего класса» в России, программное и финансовое воплощение, нуждается в отдельном исследовании. Однако уже само присутствие проектной категории в эпицентре институционального транзита указывает нам на ее высокую языковую и социальную ценность , характерную для этого периода.
На следующем хронологическом шаге, в конце 2000-х годов, мы снова обнаруживаем понятие «средний класс» в европейском официальном корпусе речи, обращенном к России. Но здесь оно утрачивает прежнюю доктринальную связь с «демократией». В документе, пересматривающем отношения Европейского союза с Россией десятью годами позже (2008), словарь экономической прибыли доминирует над всеми прочими, а понятие «демократии» не употребляется вовсе [112]. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007) [113]. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007) [114]. Подобный разрыв в понятийной сетке хорошо иллюстрирует изменения, происходящие в структуре самог о органа, Европейской комиссии, которая полутора десятилетиями ранее выступала одним из источников радикального сдвига в системе российских политических категорий. Новые отношения между понятиями в официальной речи второй половины 2000-х годов объективируют новую силовую асимметрию, возникающую как между центрами политической и экономической власти в Европейском союзе, так и между европейским и российским государственными аппаратами, все чаще захваченными неолиберальным словарем коммерции, который приносят с собой профессионалы международной экспертизы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: