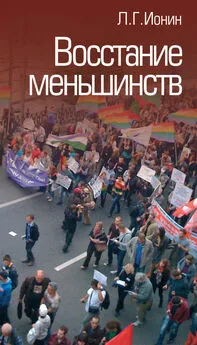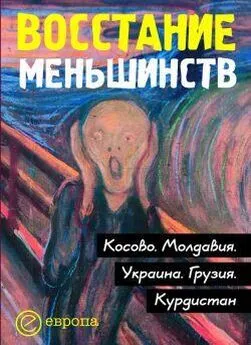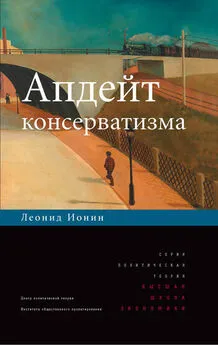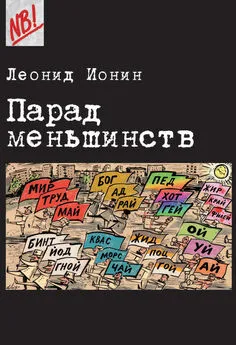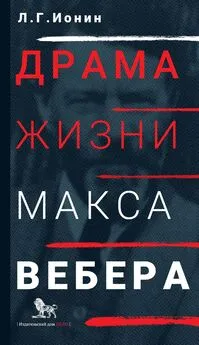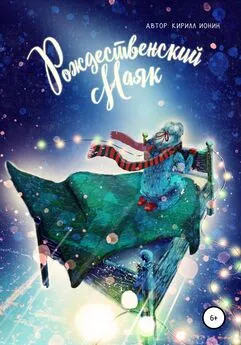Леонид Ионин - Восстание меньшинств
- Название:Восстание меньшинств
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ЦГИ»
- Год:2013
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-98712-135-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ионин - Восстание меньшинств краткое содержание
Автор считает, что «восстание меньшинств», то есть подъем их активности и рост влияния является симптомом движения к новым формам социальной организации и общественной морали, которые он объединяет именем «общества меньшинств».
Восстание меньшинств - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Беньямин не был традиционалистом и антимодернистом. Он как раз отчетливо осознавал варварский характер «традиции», то есть эпохи до-модерна, полагавшейся на голую силу, обожествление властителя и т. д. Другое дело, что он считал, что «традиция» продолжается и в модерне, прежде всего в силу его мифологического характера, что чревато новыми приступами варварства. Надо признать, что в последнем он оказался прав. Мыслители Франкфуртской школы (Адорно, Хоркхаймер) продолжили беньяминовскую линию критики модерна, продемонстрировав в «Диалектике Просвещения» тесную связь просвещенческого, модернизационного мифа с варварством XX века – фашизмом. Пожалуй, еще более явно проявляется связь с Просвещением другого мощного мифа – социалистического. В каком-то смысле под его чары попал и сам Беньямин. Он видел возможность преодоления мифологии модерна в политических преобразованиях, которые привели бы социальные отношения в соответствие с уровнем технического и индустриального развития капитализма. При этом он был далек как от идеи технического и экономического детерминизма, так и от идеи автоматизма социального прогресса. И то и другое как раз роднило марксизм с рационалистическим видением модерна. Беньямин же хотел «расколдовать» модерн, в мышлении связав прошлое с настоящим, соединив гуманистическую традицию (без варварства) и индустриально-техническое настоящее (без мифа).
Следовательно, пафос видения модерна Беньямином – это пафос преемственности. Показав, что модерн традиционен – в том смысле, что мифологичен, – он оспорил идеи теоретиков рационалистического модерна, настаивавших на резком противопоставлении современности и традиции. С другой стороны, если взять современных идеологов постмодерна, также подчеркивающих принципиальную новизну этой эпохи по сравнению с уходящей эпохой модерна, то и здесь свидетельство Беньямина ex post mortem будет свидетельством в пользу преемственности эпох.
О постмодерне речь пойдет в следующем разделе. Но уже здесь можно видеть, что ряд феноменов культуры и познания, рассматриваемых теоретиками постмодерна как свидетельства наступления (или даже едва ли не основные характеристики) новой эпохи, рассматривались Беньямином как главные признаки эпохи модерна. Во-первых, это само явление массовой репродукции (как принципа воспроизводимости произведений искусства и принципа капиталистического производства вообще), породившее едва ли не самый крупный из обусловленных модерном переворотов в жизни человечества. Французский философ Ж. Бодрийар, один из главных теоретиков постмодерна считал именно массовое копирование – порождение «симулякров» – центральным феноменом индустриального и культурного опыта, характерного для новой эпохи. Камень важный, но не главный в интеллектуальном строительстве Беньямина, Бодрийяром в его постройке был положен во главу угла. Во-вторых, в беньяминовском анализе бытования произведений искусства в эпоху модерна подчеркивалось, что именно репродуцирование создает принципиально новую возможность существования произведения искусства в различных контекстах. Вещь при этом, как отмечал один современный исследователь, «ремотивируется», приобретает новые значения, совершенно отличные от тех, что она имела первоначально, так сказать, в оригинале. Здесь, собственно, Беньямин обнаруживает истоки и формулирует первоначальное объяснение и обоснование того, что теоретики постмодерна считают крайне характерным для этого нового культурного времени явлением, именуемым по-разному в разных теоретических и языковых контекстах: «коллаж», «пастиш», «монтаж», «бриколаж».
Наконец, в-третьих, в беньяминовском учении о кризисе опыта, противопоставлении опыта и переживания и, соответственно, рассказа и информации задолго до нынешнего времени было осознано и объяснено в качестве одной из главных черт повседневного опыта модерна, то, что Ж.-Ф. Лиотар, можно сказать, инициатор осознания постмодерна как культурно-исторической эпохи, сформулировал как распад «grande écrite» – больших повествований. Эта идея стала буквально паролем постмодернистов.
Все это говорится не с целью закрепления за Беньямином интеллектуального приоритета. Цель этого краткого и неполного перечня тем и проблем, общих Беньямину и «постмодернистам», состоит в том, чтобы показать, что вопрос о разрыве и преемственности в культурных эпохах – не простой вопрос. Может быть, постмодерн не так нов, как о том заявляют его приверженцы, может быть, он начался еще в начале века, когда работал Беньямин. Тогда о современной эпохе можно говорить как о позднем модерне, что, впрочем, и делают многие нынешние философы. У нас слова «постмодерн» и «поздний модерн» будут употребляться как (почти) синонимы. Подробнее о постмодерне еще пойдет речь ниже.
Политкорректность и постмодерн
Политкорректность как идеология – это, в определенном смысле, современная инструментальная версия модерна. Относительно политкорректности существует множество взглядов и представлений [17] См. об этом: Ионин Л.Г Политкорректность: славный новый мир. М.: Ad Marginem, 2011.
. С нашей точки зрения, политкорректность – это идеология современной массовой демократии, служащая, с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики западных государств и союзов, а с другой, – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса.
Политкорректность рождалась из стремления обеспечить свободу и равенство, не меняя природу существующих институтов. Сначала это была борьба с расизмом, точнее, применительно к политкорректности, борьба со словами, состоящая в табуировании расовых тем и общеизвестном переименовании черных в афроамериканцев. При этом чисто фактическое и, как правило, безошибочное указание на цвет кожи оказалось заменено запутывающей и сбивающей с толку ссылкой на происхождение. Но инициатива оказалась заразительной, и в феминистских кругах было предложено отказаться от унижающего абстрактное человеческое достоинство понятия «женщина» и, по аналогии с афроамериканцем, именовать женщину «вагинальным американцем» (vaginal american), благо в английском языке грамматическая категория рода отсутствует, и указание на род осуществляется посредством местоимений.
Примерно тогда же началась борьба с сексизмом, имеющая конечной целью уравнивание мужчин, женщин и трансвеститов, поскольку их половая идентичность, якобы, не имеет значения с точки зрения их социальных ролей и статусов. Тогда и проник в социологию и психологию неблагозвучный термин «гендер», указывающий на пол как социальное явление. Социальные роли, которые ранее рассматривались как биологически детерминированные, например, муж и жена, стали трактоваться как гендерные роли, то есть не связанные с биологическим полом их носителей. Мы встречаем теперь в прессе сообщения о том, что в той или иной стране власти официально отказались от обозначения супругов как «муж» и «жена», а родителей как «мать» и «отец», они стали называться «первый родитель» и «второй родитель» (хотя не понятно, как можно в политкорректном мире прибегать к такой неэгалитарной, недемократической терминологии). Затем стали отказываться от связанных с брачным статусом терминов «мисс» и «миссис», «мадам» и «мадмуазель». Все эти и другие категории оказались неактуальными при однополом браке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: