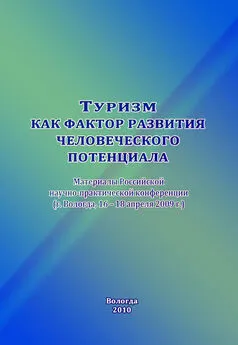Коллектив авторов - Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири
- Название:Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «СО РАН»
- Год:2014
- Город:Новосибирск
- ISBN:978-5-7692-0669-6, 978-5-7692-1312-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири краткое содержание
Работа выполнена в рамках междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 8 «Демографические, этнические и социальные риски развития человеческого потенциала Сибири»
Книга предназначена социологам, демографам, этнографам, специалистам в области государственного управления, а также широкому кругу читателей, неравнодушных к проблемам социального и демографического развития Сибири.
Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Институциональные предпосылки новой конфигурации социальных рисков. Вторая половина XX в. войдет в историю как период расцвета в экономически развитых странах социального государства с мощной системой социальной защиты, институциональные и экономические механизмы которой были созданы благодаря устойчивому экономическому росту, относительно спокойной международной обстановке. Страховые механизмы социальной защиты позволяли минимизировать негативные последствия социальных рисков, с которыми сталкивались индивиды и домохозяйства. Госта Эспинг-Андерсен идентифицирует четыре вида таких рисков:
– универсальные, с которыми могут столкнуться все люди, например, возникающие ограничения в связи со старением;
– групповые (или классовые), за которыми стоят события, чаще встречающиеся с представителями определенных групп. Например, риск бедности выше среди матерей-одиночек;
– риски жизненного цикла, например, риски бедности в течение жизненного цикла, описанные Сибом Роунтри;
– межпоколенные риски, передаваемые от родителей к детям, например, воспроизводство образовательного статуса, модели семейных отношений [Esping-Andersen 2000, p. 3].
В этом плане Теодор Лоуви определяет государство всеобщего благосостояния как государство, осуществившее частичную демократизацию риска : каждому предоставлено право пользоваться (на добровольных началах) коллективной защитой от риска или, по крайней мере, от того ущерба, который возрастает по мере увеличения риска [Лоуви, 1994, с. 254].
Но на примере европейских стран социологи констатируют, что «хотя системы социальной защиты в настоящее время охватывают огромное количество людей, изменения, которые произошли за последние два десятилетия, создали новые формы незащищенности и неустойчивости, с которыми столкнулась большая часть граждан Европы. Новое столетие унаследовало от предыдущего странный парадокс: неопределенность и неустойчивость постоянно возрастали с тех пор, как способность социальных систем обеспечивать защиту от социальных рисков достигала своего исторического максимума» [Ranci, 2010, p. 3]. Одно из возможных объяснений заключается в том, что неопределенность является неизбежным эффектом переходной фазы от разрушающегося индустриального общества к новой форме социальной организации.
Триада, на которую опиралось государство всеобщего благосостояния, – это труд, семья и благосостояние. Но по мнению Эспинг-Андерсена, эти институты сегодня являются главными источниками социальных рисков [Эспинг-Андерсен, 2006]. Под угрозой находятся в первую очередь граждане из крайних возрастных групп (дети и пожилые люди) и средний класс. Это процесс, который определяется как постепенная эрозия промежуточных положений. В работе «Социальная уязвимость в Европе: Новая конфигурация социальных рисков» выделяется три формы разрушения всеобщей защищенности. Первая – фундаментальный разрыв с моделью индустриальной заработной платы, который заключается в ослаблении рынка труда как основного механизма социальной интеграции, возрастающей нестабильности занятости, распространения нестандартных и теневых способов занятости. Вторая форма эрозии связана с постепенным ослаблением сетей родственной поддержки как следствие новых демографических тенденций и реорганизации домохозяйств, пересмотра ролевых моделей в домохозяйствах. Третий компонент эрозии «обеспечивается» ригидностью (институциональной инерцией) системы социального обеспечения. Системы социальной защиты, существующие во многих европейских странах, предлагают широкую социальную поддержку гражданам, которые полностью интегрированы в рынок труда. Но сегодня эта поддержка гарантирована для меньшей части граждан и с меньшей щедростью, чем в прошлом.
Там, где пересекаются незащищенность занятости, ведущая к нестабильности доходов, возрастающая хрупкость семейной поддержки и инерция институтов социального обеспечения, появляются новые социальные риски, критические из которых, по мнению европейских социологов, следующие:
– распространение «интегральной бедности», которая включает большую группу европейских граждан, кто постоянно или спорадически оказывается в состоянии относительной бедности;
– распространение жилищной депривации, связанной с проблемами доступности или несоответствия жилища требованиям (ситуации, которые подвергают людей социальной неустойчивости и финансовому напряжению, но не приводят в обязательном порядке к серьезным трудностям или не делают их бездомными);
– распространение мест работы и занятий, в которых труд незащищен или носит временный характер;
– совмещение трудовой занятости и заботы о детях. Масштаб этой проблемы зависит от постоянного роста занятости женщин и возросшей потребности семей иметь двух получателей дохода, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня жизни;
– условия жизни пожилых людей. Безотлагательного решения требует рост числа зависимых людей, которым необходима долговременная помощь по уходу. Зависимости в будущем суждено стать более распространенной вследствие того, что продолжительность жизни становится все длиннее [Ranci, 2010, p. 6–11].
Человеческий потенциал и человеческий капитал: различение понятий. Названные риски задают условия для практик воспроизводства, сохранения и развития человеческого потенциала разных групп населения. Специфика социологического взгляда на человеческий потенциал заключается в следующем: он воплощен в характеристиках и качествах отдельных людей, поэтому важно учитывать, в какой степени социальноэкономические условия формирования и использования человеческого потенциала включены в поведение этих индивидов.
Первоначально понятие «человеческий потенциал» использовалось для международных сравнений. С середины 1960-х гг. в работах социологов и экономистов артикулируются идеи, что экономический рост не тождествен социальному развитию, поэтому для адекватной оценки изменений в обществе необходимо расширить диапазон показателей общественного развития. В научный оборот вводится понятие «качество жизни» как расширенная трактовка условий жизнедеятельности индивидов, а в 1980-е гг. эксперты Программы развития Организации Объединенных Наций предложили концепцию развития человеческого потенциала, в которой человек определяется как целевой приоритет общественного развития (в противовес росту доходов). В 1990-е гг. концепция получила инструментальное развитие через предложение индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), основная идея которого заключается в том, что развитие человеческого потенциала представляет собой процесс расширения возможностей личности для выбора и повышения благосостояния. Учитываются возможности, при отсутствии которых люди лишены многих жизненных перспектив: вести долгую и здоровую жизнь, приобретать знания, иметь доступ к ресурсам, необходимым для поддержания достойного уровня жизни. Соответственно, в качестве эмпирических показателей развития человеческого потенциала определены ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении, грамотность взрослого населения, охват обучением лиц в возрасте 7-24 лет, валовой внутренний продукт на душу населения в паритетах покупательной способности. На их основе рассчитываются индекс долголетия, индекс грамотности, индекс дохода и, собственно, ИРЧП.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: