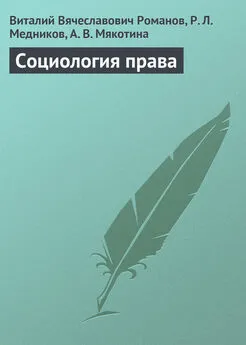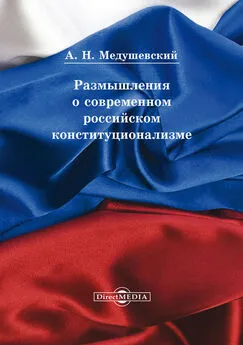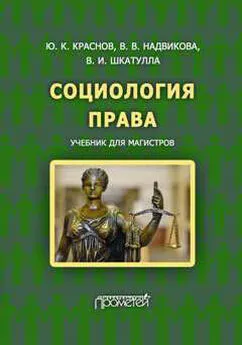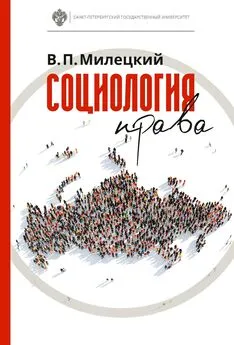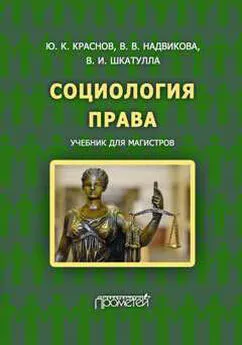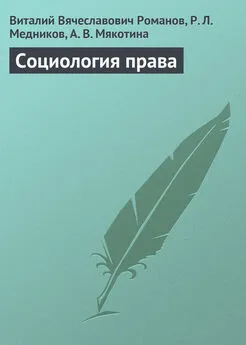Андрей Медушевский - Социология права
- Название:Социология права
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4475-2840-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Медушевский - Социология права краткое содержание
Социология права - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Германии критика рационалистических теорий естественного права и общественного договора начинается с работ Карла Людвига Хеллера. Важными направлениями консервативной мысли становятся затем романтика и конституционный консерватизм. Консервативная политическая романтика (Новалис, А. Мюллер) стремилась вывести государство и религию из некоего органического единства. В сходном направлении выступала историческая школа права Фридриха Карла фон Савиньи, выводившая право из народного духа (53). В дальнейшем конституционные идеи Ф.Ю. Шталя способствовали четкой формулировке монархического принципа (54). Идеи Лоренца фон Штейна в области социальной проблематики обогатили консерватизм в этом направлении. Признавая существование классового конфликта в обществе, последний считал возможным разрешить его путем государственного регулирования и административных реформ (55). Консервативные германские юристы обосновывали теорию государства как юридического лица, наделяя его волей и целью в праве (56). Метафизическая и авторитарная трактовка государственной воли являлась квази-официальным обоснованием имперской государственности, централизма власти, роли монархического принципа (57). В Веймарской Германии, по мере разворачивания острого политического кризиса, консервативная идеология получила выражение в новой интерпретации политической романтики.
Карл Шмитт противопоставлял дискуссии без решения (романтика) решение без дискуссии (диктатура) как две крайности. Вторая крайность была для него предпочтительнее первой в условиях Веймарской республики. Критика романтики как бесплодной вечной дискуссии и апология решительности стали фоном для его концепции диктатуры. Он дал полное описание истории данного феномена, охватывающего период от римского консулата до современной «диктатуры пролетариата» и до диктаторских элементов Веймарской конституции (58). Принципиальное значение имело различение двух типов диктатуры. Один из них – «комиссариатская» диктатура – назывался так потому, что диктаторская власть (комиссары) наделялась своими полномочиями со стороны конституированной власти. Данный вид диктатуры имел место с римских времен, был характерен для абсолютистских монархий (получив теоретическое обоснование у Ж. Бодена) и представлен народными комиссарами Французской революции. Смысл диктатуры данного вида состоял в сохранении существующей конституции путем временного приостановления ее статей. Это был, следовательно, чрезвычайный режим, направленный на защиту status quo. Совершенно иные цели преследовал второй тип диктатуры, получивший название «суверенной» диктатуры. Она получила такое название потому, что диктаторские полномочия предоставлялись конституирующей властью. В задачу данного типа диктатуры (примерами которой служили революционное Национальное собрание Франции и «диктатура пролетариата» в России) входило установление новой конституции на место старой. Сохраняя формальную зависимость от воли доверителей (французской нации или пролетариата), данный тип диктатуры фактически не мог быть ограничен правовым путем в силу факта самообретения власти. Второй тип диктатуры, следовательно, был направлен на революционное разрушение общества.
В контексте Веймарской конституции Шмитт мог определять Учредительное собрание как «суверена», а диктатуру рейхспрезидента (по ст. 48) как комиссариатскую диктатуру. Проблема заключалась в вопросе, возможно ли сохранение консенсуса в случае разрушения конституции; не станет ли в условиях конституционного кризиса «комиссарматский» гарант конституции неограниченным «сувереном». И кто, собственно, является носителем суверенитета в «суверенной» диктатуре, которая колеблется между комиссией (посредничеством) и самодостаточностью – доверитель, диктатор или оба? «Сувереном является тот, кто принимает решение о введении чрезвычайного положения», – гласит ответ К. Шмитта на этот вопрос. Эта известная формула «Политической теологии» (1922) связывает суверенитет и ситуацию чрезвычайного положения, а сувереном объявляет того, кто в экстремальном случае решает вопрос об общественной безопасности и благополучии (59). Суверенная компетенция недвусмысленно неделима и неограниченна; суверенитет – монополия на принятие решения, а суверен – принимает решение в правовом небытии, независимо от права и нормы, получает силу чистого решения. Тезис о том, что всякое решение лучше, чем его отсутствие, – приобретает характер непререкаемой истины в кризисном положении. Однако это ведет к острому противоречию между нормативизмом и децизионизмом. Государство, которое для Шмитта первоначально не должно было являться «создателем права», тем не менее, становилось своего рода демиургом нового правового порядка, что делало необходимым обсуждение ценности этого права. Данный децизионизм возвращал политико-правовую мысль назад к первым теориям абсолютистского суверенитета – Гоббсу и Бодену. Для Шмитта, который хотел быть современным Гоббсом, суверенитет государства становился темой политической теологии.
В этом контексте важные идеологические следствия имела замена концепции государства концепцией политического. Суть ее в том, что государство утратило свою монополию на политику. Поэтому концепция государства должна уступить место концепции друга – врага. Такая постановка вопроса открывала путь чисто идеологической концепции тоталитарного типа (60).
Вклад консервативной идеологической модели в создание современного общества прослеживается по следующим направлениям: предельно трезвый и реалистичный взгляд на человека и общество, отказ от метафизики просветителей и веры в идеальное общественное устройство будущего; критика с этих позиций различных (прежде всего – революционных) утопий; циклическая теория революций, которые неизбежно уничтожают их инициаторов и возвращают ситуацию вспять к естественному состоянию; активная установка на противодействие революции и теоретическое обоснование диктатуры для выхода из конституционных кризисов и восстановления легитимного режима.
3. Либерализм: преобразование права во имя свободы
Системообразующим для либерализма является понятие прав личности. Либерализм для нас – это всегда жизненно необходимый минимум прав личности. Именно в этом состоит фундаментальное единство либерализма и причина его постоянного возрождения во все новых условиях и обличиях. В соответствии с тем, дефицит каких прав (экономических, социальных, политических, религиозных, демографических и т. д.) особенно ощутим для данного общества, меняется и конкретная программа либералов, а отчасти и его социальная база. В лице либерализма мы имеем, следовательно, чувствительный индикатор состояния общества и прежде всего основной его массы, средних слоев, для которых характерно, с одной стороны, стремление к изменениям в лучшую сторону, а с другой – неприятие крайних методов, грозящих потерей и тех прав личности, которыми она уже обладает. Данный подход позволяет объяснить давно отмеченное противоречие: постоянное изменение форм либеральной идеологии и даже некоторых ее содержательных параметров, с одной стороны, и постоянное возрождение либерализма в его содержании, с другой (61). В отличие от большинства других идеологий настоящего времени, либерализм сегодня – это идеология и практика демократических государств; теория прав человека и, одновременно, их конституционное закрепление; это доктрина плюралистической демократии и в то же время гарантии ее институциональной и судебной защиты. В силу этого либерализм предстает как история и современность, идеологическое течение и социальное движение, система политических институтов и даже как проведение определенной государственной политики (62).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: