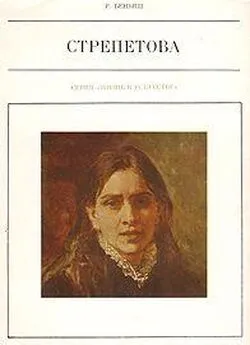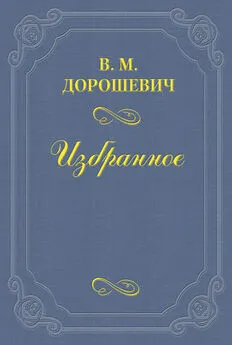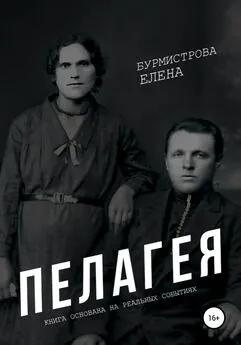Раиса Беньяш - Пелагея Стрепетова
- Название:Пелагея Стрепетова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1967
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Раиса Беньяш - Пелагея Стрепетова краткое содержание
Все в жизни Пелагеи Стрепетовой, словно нарочно, сочинено для романа. Великая трагическая актриса, она и сама шла навстречу трагическим испытаниям. Творческим, человеческим, общественным. Ее биография полна резких и неожиданных столкновений, внезапных конфликтов, таинственных совпадений. Кажется, действительность сама позаботилась о том, чтобы на каждом жизненном перекрестке, с первой минуты появления на свет, подстроить непредвиденные и глубоко драматичные повороты.
Пелагея Стрепетова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вечно ее преследовал страх нищеты, и она экономила на вещах, которые были бы незаметны в ее бюджете. Но она отдала все деньги и потом платила долги за покупку Кипелова, потому что этого хотел Писарев. А позже швырнула свои сбережения на покупку нелепой виллы в Крыму — так хотелось Погодину. А жила она летом, как и раньше, у Витмаров в Ялте, потому что привыкла и было удобнее. И платила за это по-прежнему сколько положено.
Из боязни, что кто-то ее заподозрит в искательстве, она, выступая в спектакле, устроенном в пользу неимущих литераторов, потребовала выплаты гонорара. И всех возмутила ужасно. Но полученную сумму целиком переслала в кассу взаимопомощи литераторов, не подписавшись.
Приезжая в какой-нибудь город, она точно подсчитывала, сколько должна получить за спектакль. И была при расчетах строга и внимательна. Но в Саратове, в дни гастролей, встретив товарищество артистов, сидевших в отчаянном положении, она без раздумья спасла их. Заплатила долги, выкупила их арестованное имущество. Всем приобрела железнодорожные билеты и еще дала на расходы. Сумма была солидной, но она истратила ее, предупредив, что возврата не ждет.
А когда в 1891 году Поволжье было охвачено голодом, Стрепетова собрала все ценности, полученные ею за жизнь. Броши, кольца, серебряные и золотые венки, кубки, вазы, бювары с серебряной верхней крышкой. Оставила только не имевшие ценности адреса и муаровую ленту с портретами в лучших ролях, подаренную в бенефис Репиным.
Деньги, полученные за продажу, были отправлены голодающим. Их вез сын. Он в пути простудился — ехал на розвальнях в непогоду. Стрепетовой хотелось, чтоб деньги пришли без задержки и прямо туда, где в них больше всего нуждались.
Виссарион рассказал обо всем этом по секрету. Мать велела ему сохранить эпизод в тайне.
Теперь даже лучше. Не надо было делить трофеи. Волноваться о том, кому что достанется. Все эти дорогие ей вещи растеклись в Петербурге по ювелирным лавчонкам. Кто-то, должно быть, нажил на них барыши. А кто-то неизвестный приобрел для подарка, поручив вытравить прежнюю надпись. И гравер нанес на дощечке с ее именем чье-то чужое, ей незнакомое имя. Наверняка не такое, как у нее длинное, — все-таки меньше работы граверу.
И она вспоминала, что долгое время на афишах писали ее имя — «Полина». Театральным дельцам показалось, что это эффектней, звучнее. А потом, когда имя уже не имело значения — так она была знаменита, — она возвратила свое настоящее имя — Пелагея.
К простоволосым бабам, которых она играла, это имя подходило гораздо больше. Да и к ней тоже. Ну какая она Полина!
И еще вспоминала, как часто ее дразнили горбатой. За кулисами Савина будто кричала, чтоб убрали скорей из театра «горбатую дуру». А один из актеров, Трофимов, нацарапал карикатуру: на горбе что-то вроде лукошка с грибами. Карикатуру подбросили ей перед самым началом «Грозы».
Сколько раз попрекали ее этим мнимым горбом и уродством!
Но, пожалуй, и это, как многое, было несправедливо. И горбатой была не она, а скорей ее жизнь — нескладная, в трещинах, вся углами.
Но горбатой была и ее Россия. Не эта за окнами, петербургская, великолепная, заледеневшая, чопорная. И не та, что в Москве, — с рысаками, блинами, поддевками охотнорядцев. А нищая, серая, с дымными избами и проселочной пылью. С недородами, пьянством, дремучестью, битыми бабами. И с огромной, открытой, ничем не подкупной, незаживающей совестью. И с чудесной и близкой ей молодежью, хотевшей улучшить ее Россию.
От России была эта совесть и в ней. В безрадостных серых буднях провинции она подсмотрела любовь к человеку. И всегда, в каждой роли о ней говорила со сцены.
Она любила Россию и этого русского совестливого человека всем своим существом. До физической боли. До спазмов. И другого в жизни понять и обнять никогда не могла. В этой цельности было ее могущество. Но в ней, вероятно, лежала и трагедия «пройденности».
Были годы — она это знала, — когда стрепетовское, ее скорбь и ее протест оказались нужны не театру, — России. И для этого стоило жить. Даже если она зажилась на свете. От этой России она собиралась теперь уехать куда-то в чужую туретчину! Неужели же все в ней перегорело, сломалось?
И она терзалась опять и опять. И в конце концов все же решилась. Собралась убежать от невыносимого ей одиночества. А когда все уже было готово к отъезду и она сложила в дорогу почти все свои вещи, ей вдруг сделалось плохо. Хуже, чем было когда-нибудь.
Ночью прорезала грубая, резкая боль. Стало душно, как в трюме. (В трюме когда-то, палубной пассажиркой, она пряталась от поднявшейся бури.) Она задохнулась. Но потом все прошло.
Она только хотела позвать на помощь, как прохладный разреженный воздух сменил удушье. Захотелось закрыть глаза. И она опустилась в кровать, как в прорубь.
И тогда поняла, что уже никуда не уедет.
Утром Боткин, один из вернейших друзей, настоял, чтоб ее положили в больницу.
Стрепетова попрощалась с безлюдной квартирой. С опустевшими стенами, со своим любимым портретом. Он висел над бюро, как всегда.
Когда делалось грустно, она зажигала висячую лампу с зеленым большим абажуром. Зеркало рядом погружалось в белесую тьму. И она узнавала себя не больной, постаревшей, с пергаментной кожей, а такой, как ее написал Репин.
Он писал ее много. Но этот — был лучший, самый верный из всех.
До сих пор совершенно непостижимо, как художнику удалось написать его за один сеанс. Это было почти накануне Двенадцатой выставки передвижников, и портрет произвел там фурор.
Говорили, и, кажется, даже сказал Крамской, что портрет у Репина самый удачный у него по живописи. Но ей он был близок этой особой, так хорошо ей знакомой, перечувствованностью всего, до корней волос.
Никто другой, даже и милый, талантливый Ярошенко, не постиг так, как Репин на этом портрете, ее затаенную страстность. Разве Писарев. Тот говорил, что она могла бы послужить натурой Сурикову, когда он писал свою боярыню Морозову.
А Репин увидел этот суровый, подвижнический трагизм — недаром ее называли, сердясь, сектанткой. Но и то, что в ней было художнического, светлого, вылилось в портрете.
Он писался в широкой, свободной, непринужденно стихийной манере. Из грубых, почти хаотически смятых мазков возникало лицо. Некрасивое, темное, ни в чем не прикрашенное. Но оно насильно приковывало. Сосредоточенной внутренней силой. И нервностью. И вибрацией мысли. И вопросом полуоткрытых губ. И пронзительно ищущим взглядом. И прямыми, несвязными прядями тусклых волос.
А сквозь все проникал неизвестно откуда, невидимый, но вселявший надежду и веру сноп света.
И этот сноп света актриса сейчас увидала впервые.
И тогда, тоже впервые, поняла, откуда возникло особое, бесконечно ей важное, сказанное о ней портретом. Это был удивительный победоносный трагизм всего выражения. Вероятно, то самое, что вносило дух веры в безысходно печальные судьбы ее Катерин, Лизавет, Аннет и Марий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: