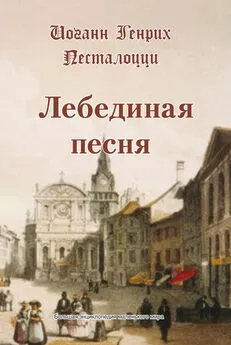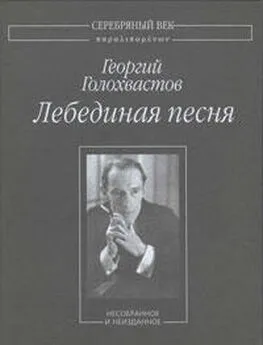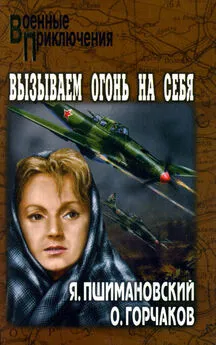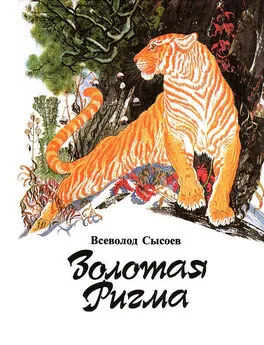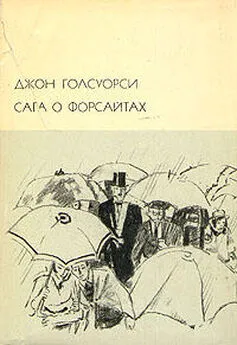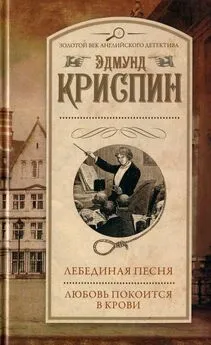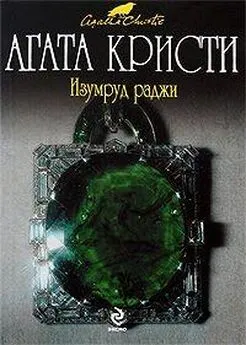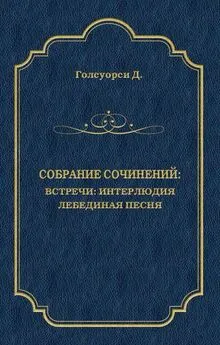Иоганн Генрих Песталоцци - Лебединая песня
- Название:Лебединая песня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98368-067-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн Генрих Песталоцци - Лебединая песня краткое содержание
Данное издание «Лебединой песни» ставит перед собой практико-ориентированные задачи. Главная из них – показать современному читателю действенность и актуальность мыслей Песталоцци для сегодняшней организации жизни детей в семье, в детском саду и школе.
Нестандартная подача текста книги направлена на то, чтобы сделать его удобным для восприятия, сделать эту книгу настольной не только для историков образования – но и для обычных воспитателей, родителей, учителей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Лебединая песня - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но можно не отвлекаться на освоение таких подходов – всегда кажущихся непрактичными, несвоевременными, недостаточно стандартизируемыми – и громоздить всё новые регламентации образовательного устройства, устремлённые к очередным «актуальным целям». Эти цели будут достигать, или не достигать, или достигать отчасти. Только при этом образовательные учреждения так и останутся фабрикой по производству несчастных и озлобленных людей, устройством неестественным, антинародным и бесчеловечным.
Впрочем, Песталоцци ясно отдавал себе отчёт в том, что оба подхода к образованию ещё не одно столетие будут существовать рядом друг с другом, проникать друг в друга, открыто разрушать и тайно преобразовывать, сталкиваться и соперничать.
8
Соратники Песталоцци, его ученики-педагоги и ученики его учеников задали тон последующей эпохи европейской педагогической мысли.
Адольф Дистервег попытался перевести ключевые идеи природосообразного образования на язык последовательного описания методов организации школьного дела. Следом подобную задачу поставили исследователи многих стран. У нас за это взялся Ушинский – и в большинстве европейских государств находились «свои Ушинские».
Фелленберг, Томас Шер и другие соратники Песталоцци к середине девятнадцатого столетия превратили Швейцарию в педагогическую Мекку Европы (было это не так-то легко; по словам того же Ушинского: « Нигде, может быть, песталоцциевская идея не встретила более упорного сопротивления, как в Швейцарии, где знали и видели Песталоцци и были свидетелями всех его неудачных и часто забавных попыток. Но нашлись люди, которые сумели отличить наивную, детскую непрактичность гения от его в высшей степени практической и сильной идеи и приложили к этой идее свою собственную практичность »).
Песталоцци подчёркивал, что самое существенное, в чём нуждается идея элементарного образования – это как можно более совершенная разработка и обязательное применение её исходных начал для детей до семи-восьми лет. И вот его ученик Фридрих Фребель открывает второй шанс «элементарного образования» для маленьких – общественный, который может дополнить или восполнить семейный. Фребель не придумывает новых принципов, но выстраивает под идеи Песталоцци форму нового, неслыханного учреждения – Детского Сада.
Интересно, что в те же годы, «ученик ученика» Песталоцци – Егор Гугель – создаёт первое подобие российского детского сада под Петербургом; а оставшийся в Гатчине от Гугеля легендарный шкаф с книгами случайно достанется Ушинскому и подтолкнёт его к глубоким педагогическим исследованиям.
Так из рук в руки преемственность опыта элементарного образования расходилась по европейским странам.
9
Другие продолжатели дела «элементарного образования» будут начинать независимо от Песталоцци, иные из них окажутся на сто или двести лет моложе. Имена участников этой «научной школы» можно буквально разгадывать, отталкиваясь от тех или иных строк Песталоцци – и выясняя, кому суждено было посвятить свою жизнь их уточнению и детальному воплощению.
«…Неоспорима истина, что не раз во время упражнений, в ходе которых мы только ещё выхаживали и лелеяли средства метода, маленькие мальчики преподносили нам в своих ответах взгляды такой простоты и глубины, что часто первые учителя нашего дома отказывались от избранной ими формы преподавания, предпочитая ту, что дети в своей простоте и невинности нашли в себе самих».
За этими словами уже вырастает яснополянская школа Льва Толстого, переворачивающая все «просвещённые» представления о роли и возможностях учителя и учеников, школа, на опыте которой великий писатель призовёт «учиться писать у крестьянских детей». Намечаются черты будущих экспериментов Станислава Шацкого, организующего образование как совместное с детьми дело, направляемое в зависимости от обстоятельств детской жизни и детских инициатив.
Мы вслушиваемся в полемические тезисы Песталоцци об истинном и ложном просвещении народа, и их продолжением слышится голос датского пастора Николая Грундтвига, развернувшего громадное движение по созданию крестьянских народных школ. Оно охватит в XIX веке весь скандинавский мир и во многом определит облик сегодняшней Скандинавии, в общественном смысле достигшей, по всей видимости, наиболее убедительных вершин демократического развития в истории цивилизации.
Мы читаем о том, что основа умственного развития ребёнка – в оживлении его впечатлений от чувственного восприятия. О достаточно обширном круге предметов, который должен быть предоставлен детям для наблюдений и опытов. О наблюдении педагога за ходом детского развития как важнейшем средстве в вырабатывания им своего метода. И мы уже «держим в руках» то зерно, из которого прорастёт огромное дерево педагогики Марии Монтессори.
Комментарии Песталоцци о своеобразии законов, по которым происходит освоение детьми языка, ведут к целому ряду выдающихся методистов, возмущавших и поражавших сограждан чрезвычайно странными, непривычными, но почему-то и чрезвычайно успешными способами обучения грамоте или иностранным языкам – от младшего современника Песталоцци француза Жакото до нашего современника Алексея Кушнира.
«…С самых первых моментов, когда искусство воспитания начинает вмешиваться в формирование в ребёнке навыков практического применения его доброжелательности, его мышления, его труда, необходимо твёрдо удерживаться в рамках, поставленных потребностями и обстоятельствами его действительной жизни».
Страница за страницей Песталоцци обсуждает то, как образование ребёнка должно перекликаться с окружающей его социальной действительностью. Какие рамки и акценты та расставляет, какие возможности дарит, без каких ложных целей подсказывает обойтись. Песталоцци рассуждает о «всеобъемлющей силе мастерства, без которой человек не в состоянии ни облагородить себя им, ни даже почувствовать твёрдое, в себе самом истинно обоснованное стремление к совершенству».
Эти мысли об укоренении задач школы в сегодняшнем дне, в обстоятельствах конкретного места и конкретной обстановки детской жизни будут развёрнуты бодрыми и социально-конструктивными формулировками Джона Дьюи, идеями метода проектов, всей системой «современной школы» и «педагогическими инвариантами». Селестена Френе.
«Элементарное образование – мечта, безделица и средство совращения народа, если не основано на общем стремлении человечества извлечь её из того единственного, вечного, на чём зиждется природосообразное формирование человечности, – из любви и веры и всегда им сопутствующей энергии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: