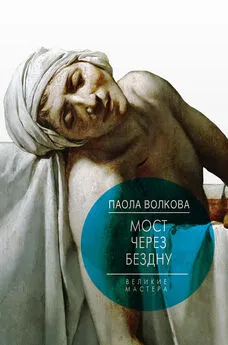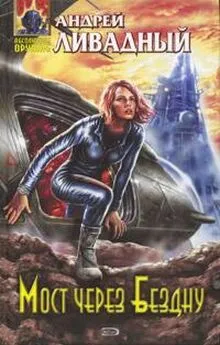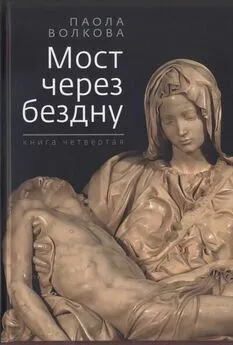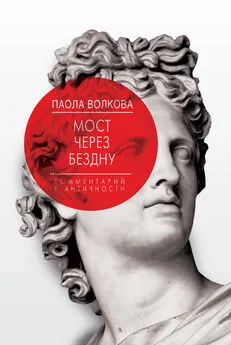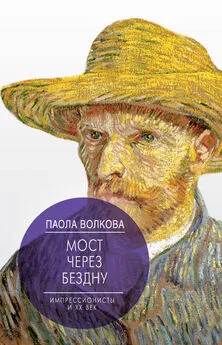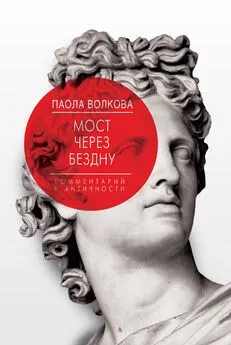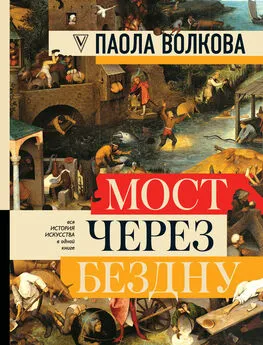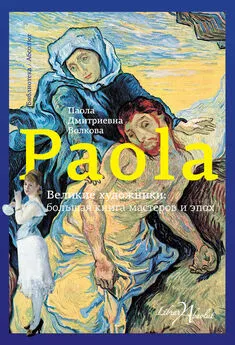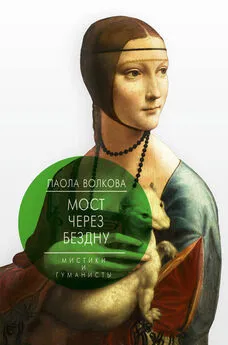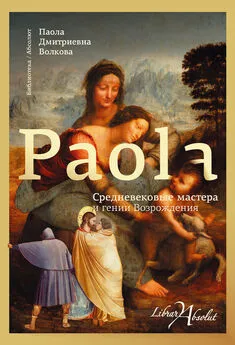Паола Волкова - Мост через бездну. Великие мастера
- Название:Мост через бездну. Великие мастера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-095239-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паола Волкова - Мост через бездну. Великие мастера краткое содержание
У каких зеркал прихорашивались красавицы былого? Венера, вознесшаяся из вод, увидела в них свое отражение и осталась довольна собой, а Нарцисс – застыл навеки, потрясенный собственной красотой. Полотна, отражая во времена Ренессанса только идеальный образ, а позже – и личность человека, стали вечными зеркалами для всякого, кто осмелится в них заглянуть – как в бездну – по-настоящему.
Настоящее издание представляет собой переработанный цикл «Мост через бездну» в той форме, в которой он был задуман самой Паолой Дмитриевной – в исторически-хронологическом порядке. В него также войдут неизданные лекции из личного архива.
В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.
Мост через бездну. Великие мастера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Процесс становления личности, вне всякого сомнения, начинается именно в это время. Взглянем на картину Тициана «Введение Богоматери во храм». Это совершенное удивительная фреска. Вспомним икону, которую мы рассматривали выше, чтобы сравнить ее с картиной Тициана.
Если икона была написана в конце XV – начале XVI века, то разница между временем написания этой иконы и этой картины не так велика.
В. А. Чивилихин пишет в своей книге о том, что у нас одно время, а у Запада другое. У них уже эпоха Возрождения на ущербе, а у нас только крепостное право отменено в 1861 году. Разве это одинаковое историческое время? Анатоль Франс прекрасно писал в «Садах Эпикура»: если люди изображены на одной фотографии, то это не значит, что они современники. Это не аргумент в пользу Запада или в пользу России, просто люди, живущие в одно и то же время по календарю, могут не быть современниками.
А потом это выравнивается. В картине «Введение Богородицы во храм» – маленький человек против целого мира. Тициан специально так это пишет. Фигурку не видать, она очень маленькая, лестница огромная, священники Иерусалимского храма стоят такие огромные, люди внизу. На этой картине изображены современники Тициана. Художник показывает, что она одна, одна против всего мира, потому что она есть личность, потому что у нее есть воля, миссия. Это мир старух, торговок, аристократов – и она поднимается по этой лестнице.
Это мир физический, который существует в пространстве метафизическом. Здесь лестница приобретает большое значение: она означает постепенное освоение пространства. И это мы можем видеть на многих картинах, это очень распространенный образ. В то же время лестница – это понятие дороги, очень четкий символ, закрепленный за определенными смысловыми категориями, категориями незаконченного времени, пространства, движения, взаимопознания. И лестница, и дорога – это символы, которые начинают свой путь с искусства Возрождения, и до сих пор они работают безотказно.
Когда Микеланджело делает Давида, то для него совершенно не важно, что он мальчишка, что он маленький. Для него важно, что у Давида абсолютное сознание победителя, уже оформившееся. Там очень трудно говорить о возрасте. Вот у Донателло и у Верроккио это важно, это уже проблема становления личности.
Посмотрим теперь на картину Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Здесь ребенок – связующее звено зрительного пространства и картины. Эль Греко написал на ней своего сына.
Его картина посвящена чуду. «Погребение графа Оргаса» – похороны, где хоронят святые, а не обычные люди. Графа хоронят святой Августин и святой Стефан. И душу графа Оргаса великий инквизитор передает прямо Иоанну Крестителю, который представляет его душу сразу к кресту. «И это истина, это чудо – истина, – говорит Эль Греко, – и свидетельство тому – мой сын». А дети – вспомните сказку о голом короле – не врут никогда, они несут истину. Если ребенок свидетельствует чудо, то оно реально. Художник делает ребенка проводником.
Эпоха Возрождения дает различные грани детской проблемы, которая не является основой для культуры. Но подлинно дети становятся героями искусства в XVII веке. В XVI веке мы их выуживаем из искусства, мы думаем, где они, каково их место, а в XVII веке дети – это герои, равные взрослым в искусстве. Личность ребенка и личность человека для художника становятся равнозначными. Даже можно сказать, что личность ребенка означает больше, чем личность взрослого человека.
Когда мы говорим о проблеме детского портрета применительно к эпохе Возрождения, то мы говорим об этом в связи с проблемами культуры: как моделирует себя проблема культуры, так моделирует себя и эта проблема. Но Возрождение – это эпоха крупных проблем, а XVII век – это эпоха рассмотрения. В эпоху Возрождения проблем рассмотрения нет, есть постановка проблемы, есть ее гуманистическое утверждение.
Когда был изобретен микроскоп? В XVII веке. А что делал Левенгук с микроскопом? Рассматривал. Для XVII века характерно рассматривание. Эпоха Возрождения все-таки имеет верхнюю точку для рассмотрения: за спиной человека, личности, всегда находится святой.
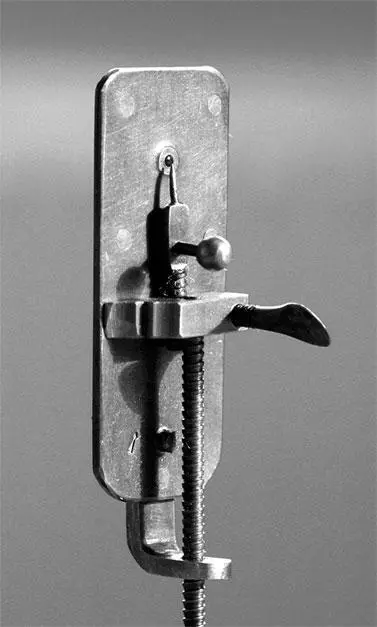
Реплика однолинзового микроскопа Левенгука.
А здесь мы как бы входим в комнату, осуществляем факт присутствия внутри пространства XVII века, а не отделение от него или вознесение над ним. Мы вместе с Дон Кихотом и Санчо Пансой вступаем на великий путь, на великую дорогу, они приобщают нас к своему действию, и внутри, а не извне. Дон Кихот вводит нас в свой внутренний мир, и мы не рядом едем, а внутри него. То же делает испанская драматургия и роман-путешествие XVII века. Мы начинаем рассматривать.
XVII век в искусстве настолько интересен, что вообще к изучению его еще даже никто не приступал, хотя можно увидеть очень много книг, подписанных громкими именами. И все-таки XVII век рассматривается в каком-то очень стереотипном ключе. Известно, что кончились религиозные войны, что идет становление абсолютизма, национальных школ. Это общие места, которые уже мешают, а не помогают рассмотрению. То есть это очень важный век – век рассмотрения, когда для человека исчезает вертикаль мира, когда он смотрит не с верхней точки, не снизу вверх и не сверху вниз, а внутри того же пространства.
Посмотрим на картину Веласкеса «Менины». В Мадриде, в музее Прадо, где она выставлена, эта картина расположена идеально: верхняя часть упирается в потолок, а нижняя – в пол. И получается, что, когда вы входите в залу, где висит эта картина, вам надо сделать только один шаг, чтобы оказаться внутри картины. Веласкес только на это и рассчитывает, потому что как зритель вы и находитесь внутри этой картины, вы стоите где-то здесь, незримо присутствуете внутри этой сцены, а герои картины за вашей спиной. В висящем зеркале вы видите отражения этих людей. Перед вами дверь.
В эпоху Возрождения вы были отделены от пространства, а теперь вы соединены с ним. XVII век показывает детали, рассматривает.
Здесь следует остановиться на Веласкесе, творчество которого занимает очень большое место в искусстве. Пожалуй, если брать детскую тему, то имя Веласкеса будет стоять на первом месте. Он любил изображать детей и любил изображать убогих, карликов. Это его главные, основные герои. А взрослых людей он очень не любил. Он не находил с ними языка, он имел контакт только с главными героями своих картин, хотя был придворным живописцем Филиппа IV и вынужден был писать то, что тот ему заказывал.
Веласкес и Сервантес, современники, гениальный художник и гениальный писатель, были великими дирижерами мира, и мир их выглядит не таким, каким он был, а таким, каким они нам его показывают. Мы видим Испанию такой, какой ее нам показывают Сервантес и Веласкес. Когда они берут в руки свою волшебную палочку и становятся перед холстом, то мир обретает то лицо и те очертания, которые они хотят, чтобы он обрел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: