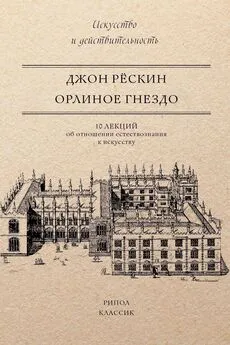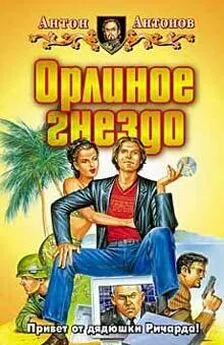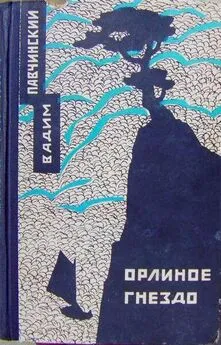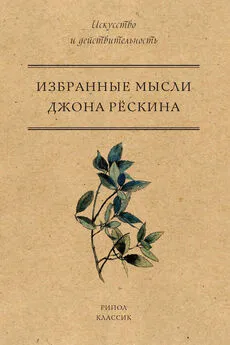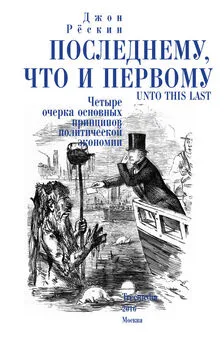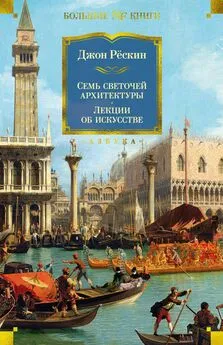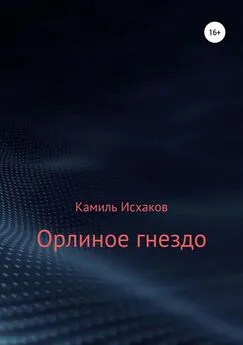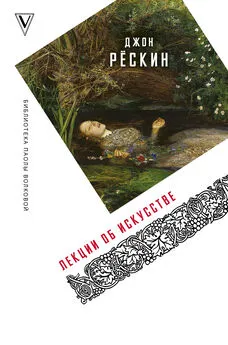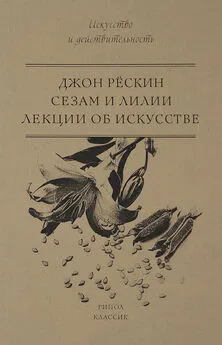Джон Рёскин - Орлиное гнездо. 10 лекций об отношении естествознания к искусству
- Название:Орлиное гнездо. 10 лекций об отношении естествознания к искусству
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785386106218
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Рёскин - Орлиное гнездо. 10 лекций об отношении естествознания к искусству краткое содержание
В этом цикле Джон Рёскин рассказывает о взаимодействии науки и искусства, влиянии изучения анатомии на работы известных художников и важности бескорыстного творчества.
Рёскин определяет и разбирает три великие сферы деятельности человечества, выдвинутые им предположения поразительны и сегодня.
Несмотря на сложность затрагиваемых тем, Джон Рёскин, будучи гениальным педагогом, излагает предмет просто и доступно, ведь его целью было привить интерес к искусству у молодых людей его эпохи.
Более ста лет сборник был недоступен широкому кругу читателей, и теперь у каждого есть возможность приобщиться к трудам великого теоретика искусства.
Орлиное гнездо. 10 лекций об отношении естествознания к искусству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Джон Рёскин со школьных лет именно так любил собирать весь мир, любуясь не его яркостью, но задумчивой основательностью. Из всех наук больше всего его манила геология: видеть спокойные пласты пород, из которых и состоит мир, нами обжитый, – это для него и было семейное родство со всей природой, со всем миром. Он путешествовал, пешком поднимался на горы и спускался в расщелины, смотрел, как давление слоев образует необходимую форму и как эта форм с головой выдает себя как непременную тайну земли.
Геологические путешествия вручили Рёскину те принципы, которых он далее придерживался в преподавании. Студент, а потом и лектор Оксфордского университета, он убеждал своих учеников, что мечту лучше обуздывать естественнонаучными занятиями. Не надо слишком предаваться восторгам при виде звездного неба: звезды, на наш невооруженный взгляд, слишком однообразные яркие точки, чтобы они рассказали, как именно нашему уму пользоваться явлениями природы. Воображение может дать сбои, а понять действительное разнообразие звезд, различие их размеров и качеств может лишь профессиональный астроном, вооруженный мощным телескопом, – а много ли их? Поэтому Рёскин наставлял учеников, что лучше пройтись по цветущему лугу, понаблюдать за жизнью деревьев и за уютом птиц на них, заметить, сколь широко течение ветра, добраться до дамбы, чем смотреть на звезды, не имея ни громоздких оптических орудий, ни требуемых знаний.
Но кроме прогулок нужна и сама работа над формой и над собой: Рёскин советовал в дождливый день закрыться в кабинете и, глядя на струи, стекающие по стеклу, вспоминать прогулки и зарисовывать те увиденные формы, которые оказались наиболее запоминающимися. Рёскин открыл особое свойство памяти, не сводившееся ни к ассоциативному запоминанию, ни к сколь угодно широко понятому философскому «припоминанию». Его мы назовем диссоциативной памятью по аналогии с ассоциативной. Ассоциативная память вручает нам ключи от готовых вещей, внушая чувство хозяйского превосходства. Диссоциативная память смиряет перед стихиями природы, разрешая при виде капли воды вспоминать не реку и тучу, а озеро или кристаллическую решетку, но именно поэтому позволяет прочувствовать их тяжесть и легкость, широту действия и глубину проникновения. Художник, научившийся быстрым карандашом и легкой кистью набрасывать вещи природы, тот и превращает проникновение природных стихий друг в друга в личную проникновенность.
Смирение Рёскина совершенно необычно – оно исходит не из нахождения под судом Всевышнего и тем более не из разных видов фатализма, который зачастую путают со смирением, но из того, что вещи предназначены для того, чтобы оказаться весомым аргументом в пользу бытия. Вещи самой своей тяжестью, самой своей яркостью доказывают преимущество бытия над небытием. А если вещь раскрывает себя, развивается, если цветок распускается и птица взмахивает крыльями, то все мироздание как будто аплодирует этой победе.
Такое представление о мире, если изъять из него важнейший для Рёскина драматический момент, ту самую сцену и те самые аплодисменты, называют телеологией, или учением о целесообразности вещей. Да, Рёскин много раз говорил, и в книге «Орлиное гнездо» говорил очень часто, что всякая форма предназначена для какой-то цели. Причем при всем множестве целей она не забывает о цели рисования, о тонкой и точной карандашной линии, о нажиме, который всегда залог объема. Если современная Рёскину наука отвергла любую телеологию как наивное легковерие, как множественные и тем более невероятные допущения, что, мол, за формами бытия стоят и замыслы, и осмысленные воплощения, и мастеровитая работа над этими воплощениями, то тем паче мнить, что тыквы и птицы существуют, чтобы потом кисть прошла именно так по холсту, было бы у любого другого автора смехотворной наивностью в квадрате. Да, у любого другого, но не у Рёскина.
Рёскину важно, что форма попадается на кисть или резец, как бабочка на булавку коллекционера (Набокова – скажем мы, люди ΧΧΙ века). Телеология здесь – не случайные размышления о цели существования тех или иных вещей, но систематическое создание лаборатории, которая должна работать верно и безупречно. Как сказал Марсель Пруст в эссе о Рёскине, Рёскин видел в поэте или художнике «писца», записывающего под диктовку природы некоторые ее тайны. Можно сопоставить Рёскина, например, с Архимедом, исчисляющим песчинки, чтобы понять, как огромный мир может вращаться вокруг невидимого центра и как числа заведомо опережают наш опыт и наше знание вещей, не давая при этом разгуляться воображению. Воображение нужно только для того, чтобы соотнести прекрасную высоту с прекрасной глубиной, а вовсе не чтобы отрешиться от вещей ради громких слов. Только для Рёскина важны были не сверхбольшие числа, которые и должны быть записаны, чтобы после нам с чистой совестью рассуждать о явлениях природы, смирившихся с условностью геометрии, но потому тем более любимых при любом подсчете, но формулировки, описывающие изобразимость разных вещей. Если правильно описать кривую, тогда она не просто укажет нам на лист или фигурную распорку и даже не просто даст это вспомнить, а позволит честно относиться к жизни листьев и инженерной строгости распорок.
Все мы знаем, что Рёскин был противником любой механизации и стандартизации. Опубликовав в 1851 г. статью «Прерафаэлитизм», давшую название целому движению художников-мифотворцев, он обосновал новое понимание уникальности. Уникален не тот, кто достиг высшего развития стиля, но тот, чей стиль не мешает вещам достичь своего высшего развития. Здесь Рёскин, как опять же заметил Марсель Пруст, по-настоящему религиозен: он исходит из того, что Всевышний, как солнце, светит на правых и неправых, но каждый человек предназначен к своей славе, которая и оправдывает этот непременный Божественный свет. Только для Рёскина в отличие от расхожей религии, в которой достаточно видеть только солнце, в искусстве нужно уметь видеть и всё, что вызвано к жизни солнцем. Видеть тину и лес, жука и слона, по вдохновению слышать голос Всевышнего, вызывающих их из небытия, и рассказывать маслом и кистью, как этот голос прозвучал.
Прерафаэлитизм Рёскин объяснил как возрождение любви к земле, которая первая ощутила тяжесть сотворенной воды, рябь веяния носившегося над водой Духа и внезапное отделение воды от земли, ту мощнейшую Божественную волю, которая напугала землю и заставила ее украситься – произвести полезные ископаемые, золото своих недр, как женщина украшает лицо. Так и живопись прерафаэлитов должна была показать особую влюбленность в землю, которая, пережив важнейшие космогонические и геологические события, не утратила способности иногда делиться своей красотой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: