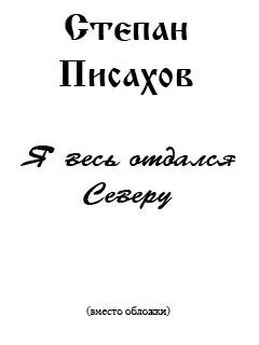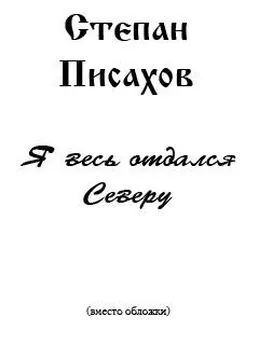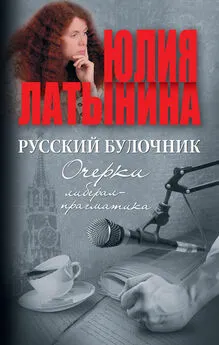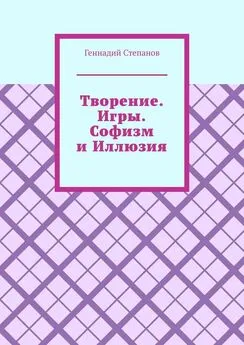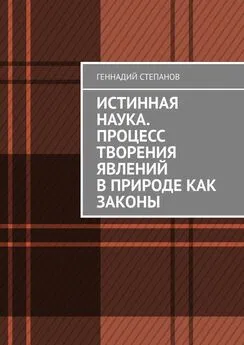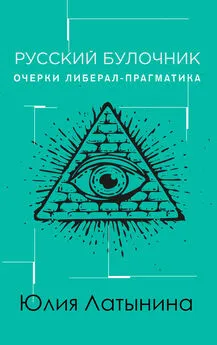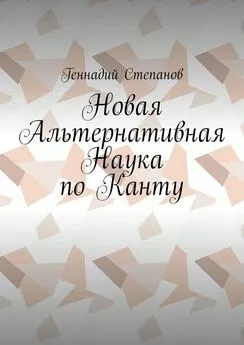Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Название:Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1257-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики краткое содержание
Книга представляет собой собрание эссе на тему насущных проблем истории искусства как практики возобновления смысла применительно к визуальной реальности прошлого. Ориентиром в этом начинании служит предельно монументальная фигура Эрнста Гомбриха – историка, но прежде всего теоретика истории искусства, достигшего в своей научной дискурсивности уровня подлинного творчества и обнажившего перформативные корни научного знания как такового. В лице Гомбриха и в сюжетах его взаимоотношений с иными личностями – Поппером, Варбургом, Панофским, Митчеллом, Прециози, Виндом и многими другими – обнаруживаются и сущностные аспекты науки как межличностной коммуникации внутри и по краям разнообразных концептуальных контекстов, что дает специфические иллюзорные эффекты, родственные эффектам достоверности, на которые, как обычно считается, способны лишь изобразительные искусства.
Книга будет полезна специалистам в области эстетики, психологии и философии, а равно и всем, интересующимся искусством и его интерпретацией.
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сохранился экземпляр фидлеровского «Истока художественной деятельности» (1887) с пометками Варбурга, который, однако, не отреагировал положительно на основополагающую идею учителя и вдохновителя Генриха Вёльфлина о снятии различия между раздражителем и реакцией (поэтому те же идеи, жесты и сам язык – не только выражение, но само творчество-творение). Мышление Варбурга остается натуралистическим, и в нем не находится места «творческой силе воображения». Гомбрих выражается без обиняков:
…обращение к фантазии означало для Варбурга и его философии угрозу душевному равновесию и духовному здоровью [222].
И это вполне соответствовало «эволюционной психологии» (и не только ей!), видевшей в фантазии «враждебную силу», хотя, согласно учителю Варбурга Герберту Яничеку («Общество Ренессанса в Италии», 1879), именно она наделяет объект «жизнью и персональностью». Это та самая сила, что
отделяет Я от внутреннего мира гештальтов и ставит его супротив его, ибо естественный враг благоразумию – аффект, который способствует превращению власти отдельного представления в тираническое владычество над всем внутренним миром и уничтожению в конце концов разницы между собой и Я-представлениями как таковыми. ‹…› Так что чем более задействованы отношения к миру, страстно возбуждающие индивидуум, тем больше потребность в художнической осмотрительности, не позволяющей Я погрузиться в волны внутренних сил [223].
И это еще вовсе не Варбург! Стоит целиком привести принципиальнейшее замечание Гомбриха о том, что
при такого рода понимании сплавляются воедино овладение фантазией и устремленность к двойному идеалу научной рассудительности и морального самообладания [224].
Изучение искусства для Варбурга было неотделимо от овладения собой. Подобное – главная тема как его научных изысканий, так и его жизненного опыта, где «воздействующая на дух череда пробуждающих страх впечатлений вытесняет порядок и рассудительность». Формулировки Гомбриха в этой связи достойны почти непрерывного воспроизведения:
…человека обступают хаос и страх, а успокоение, искомое посредством художественного творчества, не менее нестабильно, чем разум, к которому взывают, прибегая к науке с ее каузальным объяснением. Достижение художника, фиксирующего и проясняющего отображение действительности, предполагает рассудительность, которая не менее редкий дар, чем свободный от эмоций анализ ученого. И что справедливо для художника, то касается и того, кто рассматривает изображения [225].
Следующий пассаж в силу его принципиальной фундаментальности мы позволим себе выделить в виде отдельной сентенции, хотя он непосредственно следует за вышеприведенными фразами:
…осмотрительный и рациональный дух способен толковать находящуюся в движении фигуру-гештальт благодаря тому, что он, исходя из собственного опыта, восполняет впечатление тем, что было прежде, и тем, что грядет вслед. И это есть память зрителя, и это суть записанные в его духе ассоциации, осуществляющие подобный акт рациональной реконструкции [226].
Последнее слово («реконструкция») – наиважнейшее: память и рассудительность (Besonnenheit) – средства в известной мере раскопок-расследований или реставраций-реконструкций [227]. При том что предшествующий опыт восприятия может быть не только покрыт песком забвения, но и залит волнами страха и страсти. Получается, что произведение искусства – это памятник-напоминание в том числе и аффекта, который то ли стóит, то ли нет освобождать от наслоений то ли рассудительности, то ли рассеянности…
И вот – решающие и ключевые формулировки Гомбриха:
…подобный рациональный акт, как казалось Варбургу, можно было истолковать как неотрефлексированную ассоциацию, посредством которой мы стремимся всякой орнаментальной форме придать «движение». Такого рода неотрефлексированную реакцию Варбург соединял с вчувствованием и, соответственно, с теми первобытными страхами, что проецируют темное чувство посягательства на жизнь на все формы, что могут быть восприняты как преследующие хищные сущности-существа [228].
Просто представим и почувствуем, какие просвещенный зритель-историк может испытывать мучительные переживания, находясь перед произведением искусства, догадавшись и почувствовав, что он страшно недалек от своего предка, загнанного, затравленного и загрызенного давно вымершим хищником. И насколько более болезненна может быть пугающая догадка, что этот хищник вовсе не вымер и не вытеснен, что этот хищник – он сам или внутри него…
Мы сознательно сгущаем подобную эмоционально-аффективную суггестию, чтобы только передать серьезность проблем, возникающих в душе, оказавшейся местом встречи, если не столкновения интеллектуализма и биологизма, которые нельзя считать лишь концептуальными установками – как это демонстрирует случай Варбурга, – и они представляют собой жизненные сценарии, модальности экзистенциального порядка, манифестирующего строгие и прямые, почти неумолимые импликации жизни и мышления, магии и истории.
И вот еще один пример перехода, казалось бы, сугубо формальных проблем в столь же сугубо моральные. Это теория орнамента, как ее излагает Готтфрид Земпер и как ее подхватывает, перетолковывает и переживает Варбург. Согласно Земперу («О формальной закономерности украшения и его значении как художественного символа», 1854), следует различать орнамент фиксированный и орнамент подвижный. Причем последний, происходящий из убранства одежд, получает свою динамику благодаря своему носителю, обнаруживая его неуловимую подвижность. Будучи, казалось бы, всего лишь украшением, но на самом деле удерживая и передавая соответствующее настроение, «подлинный пафос», «гравитацию гештальта» (у Варбурга из этого образа как раз и происходит формулировка о «законах эстетики как законах притяжения» [229]). Все это, зафиксированное в прошлом, воздействует на зрителя сегодня, направляя и закрепляя его внимание, а вслед за ним – и эмоции и мотивации.
Варбург на словесном уровне (Гомбрих удачно называет подобные опыты «схематической пермутацией всеобщих понятий») экспериментирует с этой идеей значимой «направленности» (Gerichtetkeit), совмещая ее с мыслью Виньоли об исконной и потенциальной опасности всякого движения, предполагая, что исток и содержание удовольствия – это именно «невинное» (harmlose) движение, например бесхитростного «завитка». Он, в отличие от настоящего произведения искусства, не имеет активной направленности на зрителя, не таит в себе агрессии или угрозы подчинения, он бесцелен, замкнут на себе и поэтому дарует радость чего-то «неопасно подвижного».
Органические (именно так у Варбурга) истоки орнаментации в искусстве должны привести от первичной ступени развития (попытка с помощью орнамента придать порядок явлениям внешнего мира) через «переходную ступень», какой является «художественная продукция», к третьей – к «основоположению и причинополаганию», то есть к «чему-то научному». Заметим, что для Варбурга как для истинного позитивиста не существует ступени, превышающей «науку», – уровня философского или эстетического созерцания и уж тем более – опыта встречи со Священным хотя бы (уже не мало!) в духе Р. Отто.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: