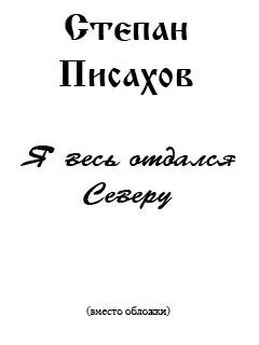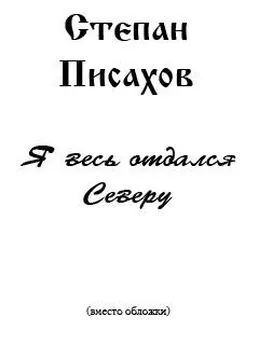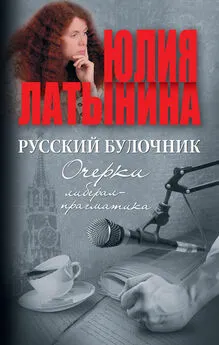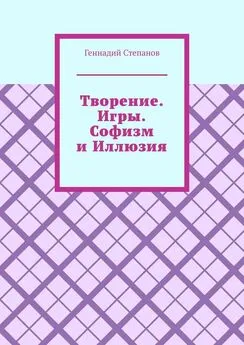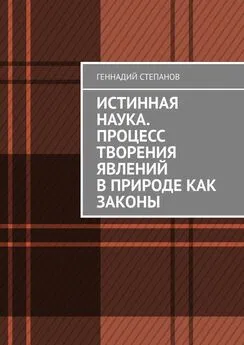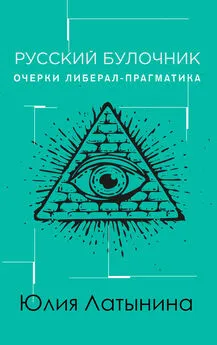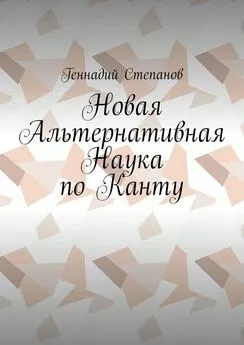Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Название:Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1257-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики краткое содержание
Книга представляет собой собрание эссе на тему насущных проблем истории искусства как практики возобновления смысла применительно к визуальной реальности прошлого. Ориентиром в этом начинании служит предельно монументальная фигура Эрнста Гомбриха – историка, но прежде всего теоретика истории искусства, достигшего в своей научной дискурсивности уровня подлинного творчества и обнажившего перформативные корни научного знания как такового. В лице Гомбриха и в сюжетах его взаимоотношений с иными личностями – Поппером, Варбургом, Панофским, Митчеллом, Прециози, Виндом и многими другими – обнаруживаются и сущностные аспекты науки как межличностной коммуникации внутри и по краям разнообразных концептуальных контекстов, что дает специфические иллюзорные эффекты, родственные эффектам достоверности, на которые, как обычно считается, способны лишь изобразительные искусства.
Книга будет полезна специалистам в области эстетики, психологии и философии, а равно и всем, интересующимся искусством и его интерпретацией.
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Жизнь как иконология
Случай (контингентность) соприкосновения Варбурга и Гомбриха выявляет крайне важное обстоятельство: иконология – это не только и даже не столько методология, не столько даже идеология, так или иначе присутствующая в художественных практиках.
Иконология – это, так сказать, биология, ею может оказаться сама жизнь личности (ее биос), если она, эта самая личность, так или иначе фиксируется на интеллектуальных и смысловых составляющих своего существования, преодолевая свою зоологичность (зоэ). Описание этой биологии, ее био-графия, выявляет, как мы убедились на примере Гомбриха, универсальные структуры смыслового порядка, где эта самая биография, то есть описание-письмо, в свою очередь преодолевает ее, этой жизни, био-логию. Преодолевает в смысле превосходит, но не отменяет: биология, органика, как мы видели, для Гомбриха – начало всякой человеческой жизнедеятельности, это первичные потребности, которые как раз в процессе своего удовлетворения себя исчерпывают и позволяют восходить на иные уровни.
Так парадоксально жизнь пресекается, если не перечеркивается этим самым письмом. И спасает, как бы защищает эту жизнь только подстановка вместо самой жизни ее подобия, имитации, если не симуляции в виде образов-символов – так сказать, защитного экрана, щита или стенда (и переносно, и буквально – вспомним варбурговский атлас «Мнемозина» с его как раз таки переносными щитами…) [240]. Иконология в этом смысле предполагает не только историзированную биографичность (способность к буквально живо-писанию) этих символов (что, впрочем, немаловажно), но и эстетизированную биологичность (жизненную осмысленность) их носителей, пользователей, покорных жертв и упорных в своей жертвенности покорителей…
И без этого откровенно экзистенциально-конструктивистского (в эпистемологическом смысле слова) аспекта невозможно понять все дальнейшие пути и маршруты все той же иконологии. Мы произвели некоторый мыслительно-нарративный скачок, взявшись сразу за гомбриховское повествование касательно интеллектуальной жизни Варбурга. Но этот «перенос» поможет нам поместить себя внутрь собственно проблемы иконологии, к которым причастны, как мы убедимся, не только отец этой традиции (Варбург) и не только тот, кто в известной мере положил ей конец (Гомбрих), но и собственно воплощение иконологии и ее реализация – Эрвин Панофский, вместивший в биологически-ассоциативное наследие Варбурга лучшие моменты позднего неокантианства с его склонностью к самой жизни (Риккерт), пусть и в символизированном обличье (Кассирер). В результате и получился тот самый конструктивизм, но сугубо герменевтический, где жизненное усилие художника продолжается и как раз таки реализуется в жизненном и синтетическом усилии интерпретатора, обращающегося, между прочим, к текстам не только напечатанным, но прежде всего написанным, нанесенным на поверхность бумаги, в своем чистом графизме формирующим биографию как все ту же иконографию. Интерпретатор как фактически графолог… [241]
Можно сказать, что это в некотором роде два синтетизма, наложенных друг на друга в результате именно смыслополагающих и аналитических активностей. У Эрвина Панофского сам фундамент этих усилий – и одновременно их результат – собственно и есть синтетическая интуиция как финал и продукт всех прочих процедур, ритуалов и церемоний научных «празднеств».
Семантика как археологическая архитектоника
И если мы берем такую наиболее всеобъемлющую художественно-пластическую модальность, каковой является, например, архитектура, то мы тут же убеждаемся, что ее (архитектуры) многоуровневость как прямое проявление ее фундаментальной выстроенности в обязательном порядке проявляется и в непреложной и ясно выраженной построенности, архитектоничности той теории, что берется эту самую реальность описывать и тем более уразумевать.
Но как архитектоника может скрываться за внешними оболочками постройки, так и выстроенная, то есть структурно устойчивая, семантика может скрываться под внешними оболочками привычного, обыденного или, наоборот, открыто аллегорического, риторического или просто непосредственно коммуникативного и потому «декоративного» смысла, по своему назначению внешнего по отношению к существу той, повторяем, реальности, что именуется архитектурой [242].
Мы не случайно уже во второй раз поименовали архитектуру реальностью: не вдаваясь в подробности той онтологии, что может скрываться за архитектонической телесностью, скажем, что возможна совсем иная точка зрения, предпочитающая ограничиваться той единственной реальностью, что засвидетельствована для сознания самым непосредственным образом – в качестве самого этого сознания. Так что смысл, так или иначе присутствующий в постройке (вообще в человеческой деятельности, в том числе эстетической и художественной), может уклоняться от своего уловления и благодаря, как ни странно, самому сознанию или хотя бы мышлению, отказывающему – по большей части бессознательно – в реальности и подлинности всему, что на него не похоже.
Поэтому получается, что всякая интерпретиру ющая активность сознания сталкивается с самим сознанием как первым, но не последним препятствием на пути к смыслу. И возведение здания смысла неизбежно связано с разборкой лесов и прочих временных сооружений, которым мы обязаны сознанию во всех его трансмутациях – индивидуальных, коллективных, исторических, обыденных, рефлексирующих, измененных, в конце концов. А если это сознание не только не замечает собственных трудностей, но и забывает о них, хоронит их и погребает себя в собственном беспамятстве и безрефлексивности? Тогда нужны не только разборки завалов, но и раскопки захоронений смысла, эксгумация гуманности, то есть – эксгуманизация…
Именно поэтому иконологические процедуры производят впечатление археологических практик: начало – сверху, с поверхности, которая, между прочим, визуально-эстетическая, следующее движение – вглубь, в своего рода корневую систему значимого смысла, под поверхность чувственного к связям предметного порядка (значение – отсылка к отсутствующим актуально вещам, по причине как раз наличия их образовсимволов). Это, так сказать, «дерн значения». Но, как оказывается, за слоем референции, если снять и его, открывается вовсе не почва и не монолит, а весьма разработанный, хотя и забытый фундамент некоего сооружения, от которого на поверхности ничего не осталось, кроме вышеописанных мифологических символов.
Так что возможен и иной образ: это не ушедшая по естественным причинам в землю постройка, а искусственно устроенная насыпь – курган, возвышающийся над поверхностью земли, но к таковой прямого отношения не имеющий. Это именно гробница – и не только смысла. Кроме того, это именно нечто возведенное, устроенное, добавленное, в том числе и ради привлечения внимания. Это уже своего рода памятник, выставляющий на всеобщее обозрение не то, что в нем сокрыто, – ни в коем случае – но сам факт сокрытости. Сокровенное – напоказ в своей недоступности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: