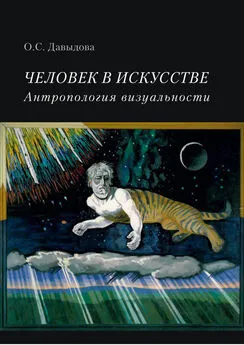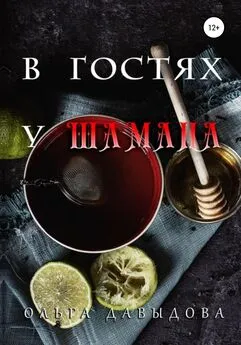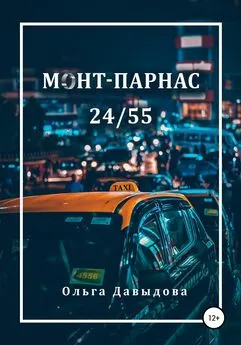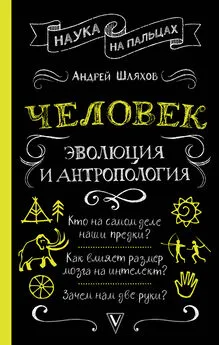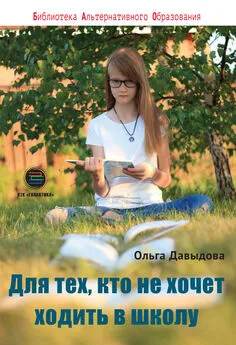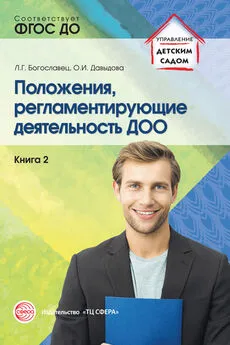Ольга Давыдова - Человек в искусстве. Антропология визуальности
- Название:Человек в искусстве. Антропология визуальности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-422-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Давыдова - Человек в искусстве. Антропология визуальности краткое содержание
Человек в искусстве. Антропология визуальности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В метафорическом смысле, клиника – естественное художественное пространство человека, доведшего до апогея то кризисное отношение к вере в художественный язык образов, которое начинало зарождаться уже в XIX веке (отмечу, что в современном искусстве «территория клинического» интерпретируется не как отрицательная характеристика мироздания, а скорее, констатируется как неизбежная «инновационная» данность настоящего времени). Анализ художественных процессов в искусстве XX века свидетельствует не только об утрате человеком религиозно-духовного самосознания, о чем писал Ханс Зедльмайр уже с 1948 года, но и об утрате доверия к «человеку душевному», за которого на пределе символистских переживаний старалось удержаться романтическое мировоззрение, все более и более уходящее в область неофициального существования. Если искусство раннехристианское, средневековое, отчасти искусство эпохи Возрождения говорило преимущественно о «человеке духовном», искусство Нового времени о «человеке душевном», то основной смысловой вектор Новейшего времени символизирует устремленность к «человеку антропологическому» (научно объяснимому, даже если и сверхъестественному), что зачастую ставит художника, с его самоценной душевной жизнью, в страдательные условия социального недопонимания. Антропологическое «самоощущение» находит активное выражение в приемах воплощения иконографической структуры разных видов современного искусства, в частности, в артистически выразительных синтетических проектах группы «АЕС+Ф». Если же задуматься о скрытом психологическом подтексте, таящемся за многими современными техниками (классическими или инновационными), формирующими визуальную «плоть» художественного образа, то приходишь к выводу, что их естественному возникновению в большой степени способствовало произошедшее в XX веке спрессовывание духовной перспективы, подведшее художника XXI века к возможности мыслить о человеке как об элементе дизайнерского коллажа или полузоологическом фрагменте органического естества (например, работы американской художницы Эллен Альтфест «Спина», 2008–2009, или «Голова и Растение», 2009–2010, Частный музей Томаса Ольбрихта, Берлин, и другие. Основной проект 55-й Венецианской биеннале, 2013). Причем, если не касаться области тревожных технических подсказок и симптомов в смысловой акцентологии произведений, то антропологическая поэтика подобной иконографической «фрагментарности» человека-объекта, человека-предмета, наделенного при этом беззащитной иллюзией внутренней сокровенной жизни или мечты о ней, способна вызывать органичное эмоциональному регистру художественного языка сопереживание.
Душа как «геном» искусства
«Что» же на определяющем уровне понимается под «душой» – субстанцией, служащей «мерой» человека в искусстве? Не погружаясь в богословскую проблематику этого вопроса, остановимся на той позиции, при которой искусство отражает душу на уровне созерцательной метафизики. Несмотря ни на какие протесты, манифесты и открытия, классическое западноевропейское и русское искусство, так или иначе, ориентируется или развивается в контексте христианской ценностной системы, на уровне знания включающей и свидетельства древней антропологии. Свидетельства эти особенно плодотворны на почве эстетического осмысления «человека чувствующего». В качестве примера можно привести многовековый опыт понимания «сердца» как центра внутренней жизни и душевных переживаний человека. Именно «сердце» ряд ученых считают ветхозаветными обозначениями личности 12, и именно о «страстях и муках сердца» будет говорить почти все поэтическое творчество, со времен Данте активно вступившее в сферу светской эстетики. Неслучайно, например, что в пространстве религиозно-символистской композиции Одилона Редона «Витраж» (около 1900, Музей Орсе) возникает образ Данте. Душа и сердце тяготеют друг к другу. Интересное статистическое соотношение употребления этих начал приводит архимандрит Киприан в учении о человеке Апостола Павла. Если слово «сердце» у «великого Апостола язычников» упоминается 52 раза, то слово «душа» – 16 раз, более всего употребляется слово «дух» – 146 раз 13. Под прилагательным «душевный» Апостол подразумевает разные проявления человеческой личности. В контексте нашей проблематики интересно то, что в общественном гуманитарном и обиходном сознании их выражение связывается, прежде всего, с областью «искусства». Это и «жизнь индивида в отличие от жизни вообще», и «субъект жизни, личность», и «душа в отличие от тела», и «чувственная жизнь в отличие от духа» 14. Исходя из этого, можно сделать вывод, что искусство, по свойственным его языку понятийно-вербальным границам, в основном выражает тяготение человека к Богу через сердце, через эгоцентрическое начало (отсюда частые поэтические жалобы), и развивается до пределов того, «что Херувимы закрывают крилами» 15, то есть до предела Духа как «средоточия религиозной жизни» 16. В эпоху активного нарастания позитивистского знания о мире, связанного с онтологическими иллюзиями, внушаемыми научно-техническим прогрессом, знание и вера в единство человека как телесно-душевно-духовного существа еще глубоко коренились в личностном и общественном жизненном укладе: «Человек происходит от Бога <���…> Обезьяны происходят от обезьян, созданных Богом. Бог создал самого себя. Я произошел от Бога, а не от обезьяны» 17, – писал Нижинский, так же как писал об этом Редон, изучавший эволюционные теории своего времени, однако, благодаря «чувству души», не считавшего человека звериным эмбрионом. Здесь же плодотворно вспомнить художественные образы Франтишека Купки, например, нимбовидное сияние таинственного духа жизни в его работе «Кувшинки» (1900–1902, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж).
Развиваясь на crescendo романтического мироощущения, к концу XIX века «культ души» достиг высочайших степеней эгоцентрации образной сферы. По сравнению с целомудренными слезами Джотто, тема «оплакивания себя-человека» зазвучала с глубочайшим экспрессивным накалом, побуждавшим художников эпохи модерна создавать соразмерную «чувству души» поэтическую реальность. Причем и в прошлом улавливались те импульсы откровения, которые работали на пробуждение мистически чувственной патетики. «Даже в своих религиозных картинах я ищу человечески понятного…» 18, – писал Франц фон Штук, «Пьета» (1891, Музей Штедель, Франкфурт-на-Майне, Германия) которого полна глубочайшей «гольбейновской» телесной драматургии, переживаемой на уровне душевно-психологического стыка «живой тьмы» (в творчестве Штука она почти всегда «живая») и неумирающего света. В романтико-символистской поэтической художественной реальности человек был и цветком, и звездами, и небом, и землей, и адом, и раем, и гностиком, и христианином одновременно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: