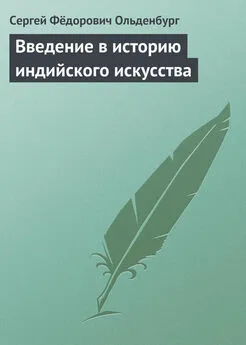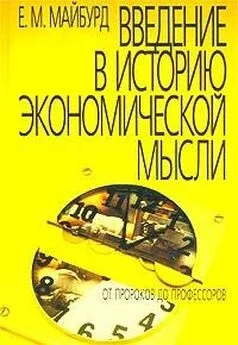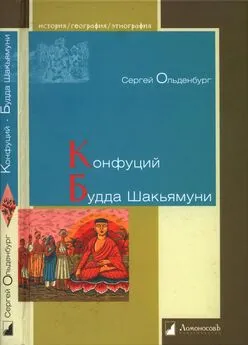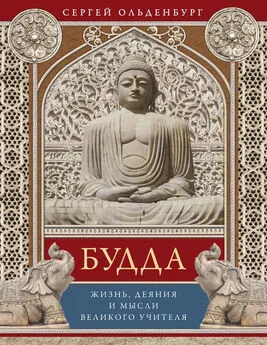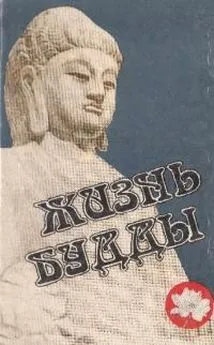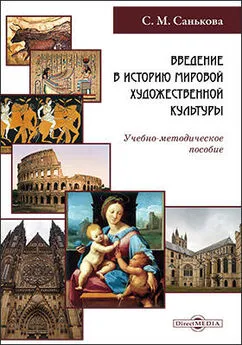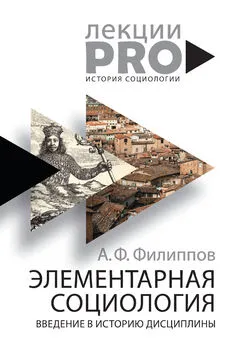Сергей Ольденбург - Введение в историю индийского искусства
- Название:Введение в историю индийского искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Паблик на ЛитРесе
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ольденбург - Введение в историю индийского искусства краткое содержание
Введение в историю индийского искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы видим затем, как царь из скромности художника говорит о том, что недостатки картины присущи только ей, а не ее оригиналу, который полон прелести. Опять отметим это употребленное царем слово «прелесть» – lāvanya, соединение которой с передачей истинной сущности оригинала рекомендует теория. Вместе с тем царь устанавливает и то сходство, которого требует та же теория. Небезынтересно и далее проследить отношение к картине, портрету в жанровой обстановке, которую мы могли бы, пожалуй, подписать «Молодая отшельница в скиту», причем должны были бы прибавить: «какою она является любящему ее человеку». Заметим тут же, что те требования теории, которые, как мы видим, относились к чисто техническому исполнению, просто обойдены молчанием: и линия, и краски, и соблюдение художественного канона. С индийской точки зрения это вполне понятно, ибо настоящее искусство, по индийскому представлению, начинается лишь за гранью внешнего совершенства и формы, совершенство это подразумевается само собою – поэт должен владеть стихом, всею формою в совершенстве для того, чтобы вообще вступить в область истинной поэзии, тоже и с живописцем, и с ваятелем. Вот почему поэт останавливается только на тех сторонах теоретических требований, которые говорят о картине по существу, а не по форме.
Но это не значит, чтобы эта форма не ощущалась, – вчитываясь внимательно, мы видим, что описания полны указаниями на краски и на линии рисунка, но эти указания не подчеркнуты, их надо почувствовать. Так, у царя чувствуешь в его первых впечатлениях: белое – зубы, улыбка, вспомните, что смех – белый. И затем красное, яркое – губы любимой. Не чувствуешь черного – о бровях говорится только в представлении линии, в ее изогнутой красоте.
Когда затем царь переходит к украшениям Шакунталы, он говорит о цветах, фон раскрывает богатую гамму красок: горы, реки, песок, деревья, одежды отшельников, антилопы; чувствуешь при этом, что тона менее яркие, чем тона главной фигуры, средоточия картины, где мы видим белый смех и красные губы, приковавшие внимание смотрящего, и как краска, и как выразители – изобразители того, о чем он так безумно тоскует, – форма и содержание для него сливаются одним захватывающим душу аккордом.
Так трудно бедными словами, столь узкими и неудовлетворительными их беспощадной определенностью, выразить те сложные чувства и мысли, которые вызывает художественное произведение, что я боюсь за бледность и слабость того представления, какое я мог дать вам о соотношении между идеальными теоретическими требованиями от картины в понимании индийского художника и попытками их выполнения, как они рисовались величайшему индийскому поэту.
Мы указали на требование сходства, которому должно удовлетворять художественное произведение, по замечанию индийского теоретика искусства, и мы можем опять сослаться на поэтическое произведение, которое подтверждает общепризнанность в Индии этого понятного требования и, кроме того, указывает, как мы именно должны его понимать. Одним из главных упреков, которые западные художники делают восточным, это недостаточное, по мнению наших художников, пользование их восточными собратьями так называемою «натурою»; этот упрек они постоянно сопровождают указанием на те или другие представляющиеся им ошибки. Мне кажется, что здесь кроется глубокое недоразумение: мы только что видели, что индийская теория требует сходства, т. е., очевидно, того, что требует глубокого и внимательного изучения и знания оригинала; слова Калидасы подтвердили нам распространенность этого требования и намекнули на пользование натурою. Но, несомненно, речь шла не о том пользовании натурою, к которому мы привыкли у наших художников. Я приведу вам сейчас ссылку на индийскую драму середины VII в., где мысль эта нашла себе прекрасное выражение. Герой пьесы изображает свою любимую, он чертит красною краскою контуры изображения любимой девушки на камне и поражает своего друга сходством этого изображения с оригиналом.
– Предмета твоего изображения здесь нет, и все же ты так его рисуешь! Это чудо! – говорит друг.
Герой пьесы, улыбаясь:
– Что тут удивительного? Моя милая здесь, мои желания поставили ее передо мною. Ведь я взгляну на нее и пишу, и опять взгляну и опять пишу, как же удивляться сходству?
Конечно, здесь поэт изобразил нам ярко и нежно то состояние души любящего, когда любимая всегда перед ним как живая, ему легко писать ее такою, какою она в действительности, ибо она всегда перед его глазами. Но также перед глазами художника всегда должен быть тот образ, который он хочет запечатлеть в своем произведении, та черта, та краска, которые владеют им, – он видел их в том, что мы называем действительностью, и они запечатлелись в его глазах, в его восприятии так, что ему нет надобности опять видеть их, непременно осязая их глазом. Он видит все без того, чтобы это ви́дение искажало для него образ теми чертами минутного и случайного, несущественного и ненастоящего, какие являются для нас от повторного рассмотрения, с осознанным желанием закрепить, затвердить ту или иную подробность. Вернее всего это можно передать сравнением с теми усилиями, которые делает тупой и бездарный человек, когда, чтобы закрепить в своей памяти понравившийся ему стих, он повторяет бессмысленные слова: «горные, горные, горные» «вершины, вершины, вершины». Вы чувствуете, что этот человек никогда не поймет того поэтического произведения, которое он пытается так усвоить, – он воспринимает одни слова; так и художник воспринимает, при ложном пользовании натурою, одни случайные черты, а не образ, который должен быть постоянно перед ним, вне реального позирования предмета. Здесь происходит опять то же, что и с поэтом и писателем, герои которого живут в нем действительно без того, чтобы он постоянно воспринимал впечатления о них каждоминутно из окружающей жизни, в виде впечатлений от определенных живых людей. От индийского художника, как мы видим, требуется безусловное знание натуры, она всегда должна быть перед его глазами, в его восприятии, но только не в виде предмета для заучивания глазом.
Две ссылки на драмы, сопоставленные с отрывком из старинного теоретического трактата по живописи, позволили нам с несомненностью установить существование в древней Индии более чем полторы тысячи лет тому назад определенных теоретических взглядов на искусство; я считал бы лишним утомлять вас длинным перечнем ссылок на обильные указания в литературе – романе, повести, драме, лирике, касающиеся искусства и указывающие на значение, какое оно имело в жизни людей, ценивших художественные восприятия, а таких в Индии, как мы знаем, было всегда немало. Но я хотел бы указать, что, к сожалению, при малой еще исследованности предмета многое нам еще неясно относительно понимания искусства в Индии; так, наряду с выраженным отношением к. живописи, к картине мы видим и совсем иное отношение к искусствам изобразительным: они воспринимаются как выразители чисто внешних впечатлений, лишенные истинной глубины и потому отстающие от слова, лишенные тех сокровенных глубин, которые принадлежат как будто одному слову. Немало усилий потребуется для того, чтобы разобраться в этом художественном течении, которое мы пока, по скудости наших знаний, можем только отметить здесь. Также лишь отметить, и по той же причине, мы можем вопрос об отношении живописи и музыки, между которыми в Индии, несомненно, были протянуты соединительные нити. Я предупреждал вас, что, к сожалению, мне часто пока придется больше ставить вопросы, чем давать на них определенные ответы, но ведь и вопрос уже заключает в себе намечение пути.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: