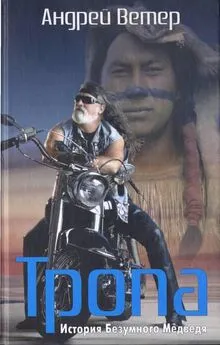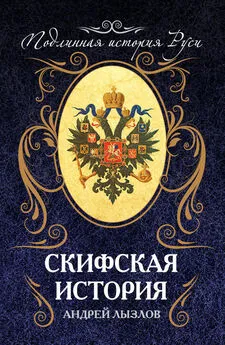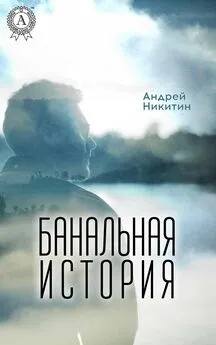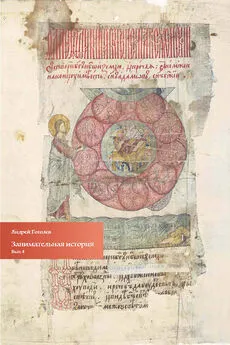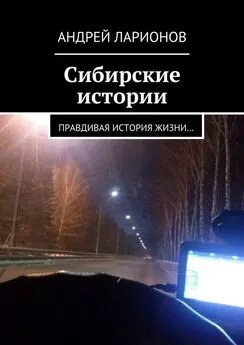АНДРЕЙ ЛЫЗЛОВ - СКИФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
- Название:СКИФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
АНДРЕЙ ЛЫЗЛОВ - СКИФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ краткое содержание
СКИФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уже приведенные примеры позволяют утверждать, что в объяснении различных явлений Лызлов ищет причинно-следственную связь исторических событий.
Однако он полностью освободиться от влияния богословской традиции не смог. Опустив в своей книге религиозно-нравоучительные рассуждения Нестора-Искендера из «Повести о Царьграде» и некоторые молитвы Иоанна Глазатого из «Казанской истории», он все же отдает дань традиции и приводит в ряде мест «чудеса» и «знамения», а также восклицания, обращенные к богу. Свои реалистические рассуждения он порой подкрепляет отвлеченным «моральным» фактором. Так, выписывая у Стрыйковского строки о комете, обращенной хвостом на восток и пролетевшей якобы перед нашествием татар, он разделяет мнение хрониста о том, что «планета Сатурнус непостоянный, иже по принуждению творит люд мучительный, страшный и жестокий». «Попущением божиим» он объясняет мор в татарских улусах, землетрясение 1509 г. на территории Средиземноморья и пр. Вслед за летописцем он склонен толковать набег Батыя «за многие грехи наши». А первоначальный успех турецких завоевателей объясняет так: «грехов ради и скверных дел народов христианских». Автор приводит предсказания древних мудрецов о падении Константинополя и о том, что со временем «российские народы турок имут победити…».
Но при этом автор сознает необоснованность некоторых толкований: так, рассказывая о сне Амурата III, он пишет, что гадатели, «яко прелестницы злые», истолковали сон султана так, чтобы обратить его гнев на христиан. Отсюда явствует, что «гадатели» не владеют потусторонней силой, а в своих предсказаниях исходят из определенных политических интересов.
С этой точки зрения характерен тон, которым автор говорит о мусульманской религии: от ищет ее социальные корни, подчеркивает первоначальный демократический характер ислама, «имевшего успех» между простыми людьми; Мухаммед давал освобождение рабам, к нем шли простые люди разных национальностей, но за это «господа вознегодаваша нань, невольников ради своих, {385} возмущенных от него и бегающих от них». Лызлов приводит биографические сведения о Мухаммеде, отмечает его природный ум и «остроту многую». Успех его проповедей он объясняет военными победами. Лызлов вскрывает практические меры, применяемые мусульманским духовенством к распространению ислама на Балканах: составление Корана, закрытие философских академий на Ближнем Востоке, расселение мусульман в других областях и последовавшие вслед за этим смешанные браки, торжественность обряда обращения в мусульманство, запрещение содержать в порядке христианские церкви, носить оружие немусульманам, ездить им верхом и т. д.
Он попытался проанализировать отдельные течения в исламе в зависимости от конкретных исторических условий страны, принявшей веру, и социального состава жителей. В этом еще раз проявился рационалистический элемент мировоззрения Лызлова. Даже когда речь шла о сугубо богословских вопросах, он весьма реально подходил к их осмыслению.
«Скифская история» - показатель противоречивой борьбы старых и новых тенденций на историю: прагматизм в ней торжествует, а провиденционализм отступает, проявляясь иногда как неминуемая дань традиции.
Историки-гуманисты в странах Западной Европы отражали идеологию нарождающейся буржуазии, отсюда их воинствующий атеизм, идеализация античности, республиканские идеи. В России выразителями новой, рационалистической мысли становились представители дворянства, поэтому они осуждали принцип выборности (султанов), восхваляли монархию, опиравшуюся в своей политике на «разумные» начала, призывали к укреплению военного могущества своего феодально-крепостнического государства.
В этом и была, по нашему мнению, особенность и противоречивость русской историографической мысли кон. XVII - нач. XVIII в.
Использование сведений, собранных в «Скифской истории», для научного осмысления исторических процессов имело место уже в нач. XVIII в. В «Подробной летописи от начала России до Полтавской баталии» (1715), составление которой приписывается Ф. Прокоповичу, имеются ссылки и на «Скифскую историю» 25.
В 1713 г. была издана одна из редакций «Повести о Царьграде», заимствованная из «Скифской истории». Тем самым редактор этого издания принял «целиком исторические и религиозно-этические взгляды Лызлова» 26. Незначительные добавления к «Повести…» были сделаны лишь из хронографа Дорофея Монемвасийского, переведенного в 1665 г. Кроме того, поскольку повесть {386} вышла как раз после Прутского похода 1712 г., был несколько смягчен непримиримый тон Лызлова в отношении Турции и политики западных держав, поощрявших ее агрессию.
Затем «Повесть о Царьграде» попала в Болгарию, где и была опубликована в XVIII в. с некоторыми пропусками 27.
Как видно из трудов и переписки русских историков В. В. Татищева и П. И. Рычкова в сер. XVIII в., оба они были знакомы со «Скифской историей». Татищев считал, что «оная к татарской истории много потребна» 28. На одном из ранних списков «Скифской истории» помещено: «Татищева». С этого экземпляра, правленного черными и красными чернилами, по заданию владельца в 1745-1746 гг. был сделан новый список. Насколько Татищев ценил «Лызлову оригинальную татарскую историю, именуемую „Скифия“» 29, свидетельствует тот факт, что он рекомендовал П. И. Рычкову ознакомиться с ней.
В своих работах о татарах, об истории Оренбургского и Астраханского краев и главным образом в «Опыте казанской истории древних и средних времен» П. И. Рычков использовал материалы «Скифской истории» 30. В рецензии на «Опыт…», помещенной в «Gцttingische Gelehrte Anzeigen» (1760. Bd. 2. S. 1340-1349) А. Шлецер писал, что ее недостатки проистекают от того, что автор использовал труд А. И. Лызлова, а не западноевропейских историков. Рычков отвечал, что рецензия Шлецера показывает «самовольство сочинителя ее», а «неуважение тех писателей, которых я, в некоторых местах, употреблял, не заслуживает возражения» 31. Г. Миллер, не в пример своему соотечественнику Шлецеру, высоко ценил «Скифскую историю» и переводил на немецкий язык отдельные ее фрагменты.
В кон. XVIII в. интерес к сюжету «Скифской истории» возрос; это было вызвано политической ситуацией. В связи с русско-турецкими войнами (1768-1774; 1787-1791) и присоединением Крыма к России (1783) появились переводные сочинения о Турции. Так, в 1789 г. в Петербурге у Брейткопфа был напечатан перевод книги, изданной в 1788 г. в Берлине: «Новейшие известия о Турецкой империи для тех, кои желают иметь сведение о состоянии оной, особливо при случае нынешней ее с Российскою и Римскою империями войны, с генеральною картою всех Турецких земель». Это - краткий рассказ современника о состоянии Турецкой империи: «Историческое и географическое начертание, обряд {387} богослужения и качество нравов, образ правления, военный порядок». Вслед за этим в 1789 г. были изданы «Цареградские письма о древних и нынешних турках» (СПб., в 8 °), в них содержалось 14 коротких рассказов о Турции, разнообразных по содержанию: о законах, нравах, праздниках турок и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: