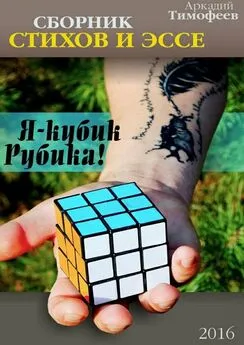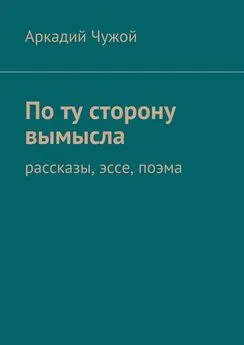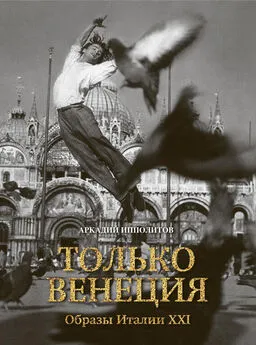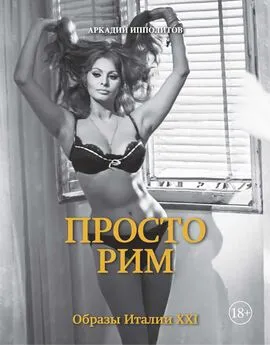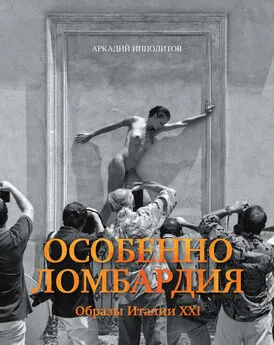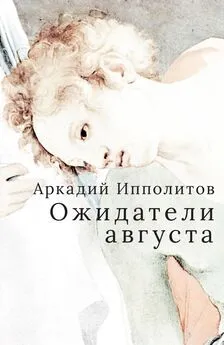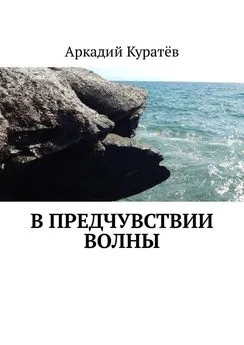Аркадий Ипполитов - Эссе 1994-2008
- Название:Эссе 1994-2008
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Ипполитов - Эссе 1994-2008 краткое содержание
Эссе 1994-2008 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кузьме Сергеевичу Петрову-Водкину была отведена особая роль.
Влиятельнейший художественный критик Сергей Маковский, один из
главных представителей петербургского эстетства, считал
Петрова-Водкина своим открытием и всячески поддерживал художника.
В 1909 году он устроил его персональную выставку при редакции
журнала "Аполлон", где было собрано около семидесяти картин и
рисунков молодого живописца, и благодаря этому событию имя
Петрова-Водкина стало известно в Петербурге и Москве, прочно
утвердившись на всех демонстрациях современного русского
искусства.
Стать избранником "Аполлона" в 1909 году значило очень много.
Этот журнал стал воплощением элегантного петербургского снобизма,
пышно цветущего в передовых салонах северной столицы. Роскошно
изданный, очень дорогой, малодоступный, предназначенный для
избранных, "Аполлон" придерживался подчеркнуто прозападной
ориентации, противопоставляя себя замшелым православию,
самодержавию и народности, воплощавшимся как во все еще
здравствовавшем академизме, так и в смыкающемся с ним
передвижничестве. У сторонников и последователей Стасова "Аполлон"
вызывал не меньшее раздражение, чем у профессоров Академии.
В то же время эстетизм "Аполлона" подвергался все более и
более резкой критике радикальной молодежи, для которой Сергей
Маковский был таким же ископаемым, как и Стасов. Для русского
футуризма просвещенное западничество петербургских интеллектуалов,
связанных с "Аполлоном" и объединением "Мир искусства", было
пройденным этапом, и футуристы не видели различия между их
эстетизмом и художественными пристрастиями журнала "Нива".
Бурлюку, Маяковскому и Крученых либеральность "Аполлона" казалась
вялой, его вкус эклектичным, воззрения старомодными и утверждения
беззубыми. Молодые футуристы открыто заявляли, что всей редакции
"Аполлона" давно уже надо отправиться в богадельню.
Находясь между пышущим ненавистью официозом и задиристой
критикой авангардизма, "Аполлон" чувствовал себя несколько
неуверенно, несмотря на весь свой самоуверенный вид. Так,
например, прозападная позиция в России всегда страдает уязвимостью
и, в сущности, никогда не бывает особенно популярна. Поэтому
"Аполлону" был необходим художник русский, русский без всяких
сомнений, не Бакст или Бенуа, в чьих произведениях всегда
чувствовался дух инородцев, а мастер с иконописно-православной
закваской. В то же время он не должен был быть грубым самородком,
чуждым пропагандируемому Маковским аполлонизму. В общем, это
должен был быть художник подлинно национальный, но при этом ни в
коем случае не подверженный национализму, художник, которого можно
было бы противопоставить и старчески брюзжащим Репиным, и
надрывающимся Бурлюкам. Найти такого художника было столь же
необходимо, сколь и трудно. Маковский поставил на Петрова-Водкина
и выиграл.
"Купание красного коня" было помещено над входной дверью
выставки объединения "Мир искусства" в 1912 году и воспринималось
как знамя эстетствующей интеллигенции в борьбе против протухшего
реализма и отвязных беспредметников. Ни сомовская дробная игра
старыми формами, ни ходульный бакстовский символизм, ни грустные
мечты об ушедшем Борисова-Мусатова, ни вялое марево "Голубой розы"
не могли претендовать на какое-либо лидерство. Все
ретроспективисты были заняты частностями, а в полотне
Петрова-Водкина оказался достигнут синтез прошлого и настоящего,
указывающий дорогу к будущему. Паоло Учелло и новгородская
иконопись, то есть классическая европейская и классическая русская
линии, слились в неразрывное целое, подверглись матиссовской
аранжировке и превратились в необычайно выразительное
высказывание, где прошлое не предается анафеме, но в то же время
различимы и ноты пророчества. Именно такого произведения и ждал
"Аполлон", произведения, где дыхание русских просторов рифмовалось
бы с синевой Тосканы, где подлинно русский образ безболезненно
сочетался бы с классической идеальностью, где была бы
выразительность авангарда и глубина традиционализма.
Блюстители стиля назовут это эклектикой, но можно это назвать
и новым единством.
Сколь бы ни была справедлива критика в адрес "Купания
красного коня", произведение Петрова-Водкина перестало быть
картиной и превратилось в символ, в прозрение, в манифест. В
какой-то степени его воздействие не менее сильно, чем воздействие
"Черного квадрата" Казимира Малевича, и если "Аполлон" и мог
что-то противопоставить грядущей катастрофе беспредметности, то
только Петрова-Водкина. Безродный юноша из Саратовской губернии
стал воплощением чаяний петербургских эстетствующих
интеллектуалов, и кто знал, что скоро лицо поэтичного и
прелестного мальчика, оседлавшего кроваво-красную зарю,
превратится в квадратные физиономии рабочих и комиссаров.
Одна из самых привлекательных черт таланта Петрова-Водкина -
это мечтательная и меланхоличная честность. Каково было избраннику
"Аполлона" в революционном Петрограде, все более и более
зверевшем, нетрудно догадаться. Он в нем остался, не пытался
бежать и взял на себя неблагодарный труд спасать остатки
человечности во что бы то ни стало. Его "Петроградская мадонна"
звучит как оправдание надеждой. Мир пустеет и наполняется холодной
отчужденностью смерти, ощутимой в безжалостном геометризме
пространства города, но в прильнувшем к груди младенце теплится
спасение и вера в то, что жизнь продолжается. Эта картина -
оправдание России и самооправдание Петрова-Водкина.
Репин остался в Финляндии, футуристы яростно делили власть,
не успевшие уехать мирискусники затаились по углам, а
Петров-Водкин пытался наделить революционное сознание
монументальностью итальянского Кватроченто и духовностью
иконописи. Желание было столь же прекраснодушным, сколь и
безрезультатным - советскому обществу нужна была совсем другая
монументальность. Петров-Водкин был отвергнут официозом и стал
любимцем либеральной интеллигенции, видевшей в нем некий вариант
социализма с человеческим лицом. Сегодня же в нем больше всего
привлекает разреженный холод его натюрмортных композиций, столь
точно передающих дух двадцатых годов, их поэзию, полную опасности
и угрозы, хрупкость и горечь смерти аполлонизма начала века.
Печатная версия № 23 (2001-06-05)
Культура // Аркадий Ипполитов
Мученик - мучитель
В Московском центре искусств на Неглинной представлены 27 полотен Павла Филонова из Русского музея
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: