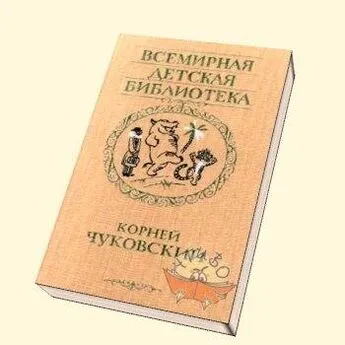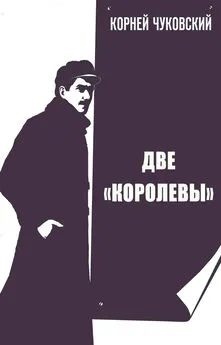Корней Чуковский - О Чехове
- Название:О Чехове
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Корней Чуковский - О Чехове краткое содержание
О Чехове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
менно подумает, будто ее предназначение - служить материалом для небольшой и безобидной юморески.
Вот вся эта запись от первой строки до последней:
«Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то казалось, улыбался: нашел свой идеал» (240).
Карикатурная личность, изображенная в этой заметке, пригодилась бы всякому другому писателю вроде Лейкина, Били-бина или Грузинского лишь для небольшого фельетона в «Петербургской газете», в «Осколках», в «Стрекозе», в «Развлечении», в «Будильнике».
Что же сделал Чехов с этой записью, чтобы она стала шедевром мирового искусства и криком проклятья бесчеловечному рабьему строю?
Он широко обобщил этот образ, превратил его забавную «футлярность» в грозный символ всероссийской тирании, опирающейся на целые бригады шпионов, и властью своего мастерства поставил его в один ряд с такими монументальными образами всемирной сатиры, как Пексниф, Фома Опискин, Обломов, Тартюф, Иудушка Головлев, Гарпагон. Причем величайшее торжество чеховской обличительной живописи заключается в том, что для создания своего широко обобщенного образа ему потребовались не сотни страниц, какие потребовались Диккенсу, Бальзаку, Гончарову, Щедрину, Достоевскому, а всего только пятнадцать или двадцать. Так густа концентрация чеховской творческой мысли, так могуч ее непревзойденный лаконизм.
Сравнивая эту новеллу с ее эмбрионом, читатель хоть отчасти приобщится к пониманию того, что же было сделано Чеховым, чтобы превратить в бессмертное произведение искусства эту свою, казалось бы, легковесную запись об анекдотически забавном субъекте, державшем и себя и свои вещи в чехлах. Или вот другая запись в той же книжке: «У гробовщика умирает жена; он делает гроб. Она умрет дня через три, но он спешит с гробом, потому что завтра и в следующие затем дни - праздник, напр. Пасха… Когда она умирает, он записывает гроб в расход. С живой жены снял мерку. Она: помнишь 30 лет назад у нас родился ребенок с белокурыми волосиками? Мы сидели на речке. После ее смерти он пошел на речку; за 30 лет верба значительно выросла» (285-286).
Здесь опять-таки нам дается возможность дознаться, каким образом из короткой, сухой, близкой к банальному анекдоту заметки выросла «Скрипка Ротшильда» - одно из самых мудрых и музыкальных произведений великого мастера, осиянное тем особенным чеховским светом, светом сострадания и жалости, который хоть и ощущается всяким читателем, сколько-нибудь чутким к поэзии, все же не получил в нашей критике ни точного определения, ни имени.
Попытки анализировать этот загадочный свет, столь же присущий произведениям Чехова, как таинственная лучезарность присуща полотнам Рембрандта, делались в русской литературе не раз. Наиболее серьезная предпринята в книге известного критика А.Б. Дермана «Творческий портрет А.П. Чехова» (1929). Книга умная, талантливая - и в то же время глубоко неверная, основанная на ошибочной мысли, будто Чехов был холодноватый и равнодушный писатель, придумавший несколько удачных приемов, чтобы скрыть от читателя прискорбный ущерб своей психики.
В числе этих приемов была будто бы преднамеренная поэтизация жизни и нарочитая трогательность лирических мест.
Впоследствии в позднейшей работе о Чехове критик почти отказался от этой концепции и, представив читателям ряд наблюдений над чеховским стилем, поставил перед собою задачу исследовать те «специальные средства», при помощи которых писатель преображал в золотую поэзию свои повести, рассказы и пьесы о самых, казалось бы, прозаических, заурядных явлениях жизни.
Этих специальных средств в книге Дермана указано несколько. И первое средство - пейзаж. Каждое чеховское изображение пейзажа имеет, по словам исследователя, «значение усилителя эмоциональных образов и ситуаций». Кроме того, пейзаж у Чехова - «это не только… аккомпанемент к повествуемому. Нередко это - равноправный партнер с другими компонентами по раскрытию идейного и философского смысла важнейших моментов произведения»1.
В записных книжках пейзажи отсутствуют начисто, и это сильно способствует их прозаичности.
'А. Д е р м а н. О мастерстве Чехова. М., 1959.
Но, конечно, дело не только в пейзажах. Критик тут же перечисляет и другие приемы, якобы применявшиеся Чеховым для повышения эмоциональности своих пьес и новелл.
Все это, пожалуй, справедливо, но можно ли сомневаться, что проницательный критик и сам познавал всю недостаточность подобных концепций?
Ибо произведения Чехова отнюдь не потому поэтичны, что Чехов умел в нужных случаях искусно поэтизировать их при помощи таких-то и таких-то приемов, а по той единственной причине, что он был поэт, и притом вдохновенный поэт. Лишь потому волновал он других, что волновался и сам.
Изображать дело так, будто писатель, оставаясь вполне безучастным к печалям и радостям своих персонажей, применял какие-то особые хитроумные средства, чтобы поэтически растрогать читателя, - значит подменить Чехова каким-то рассудочным формалистом-ремесленником.
Конечно, его искусство отнюдь не стихийно. Он строил свои рассказы и пьесы с математическим учетом того впечатления, какое произведет на читателя то или иное звучание слова, тот или иной эпизод. Потому-то мы и зовем его мастером. Но растрогать может только тот, кто растроган и сам. Не существует технических способов, дающих возможность рассудочному, прозаически трезвому автору насыщать свои произведения такими эмоциями, которых нет у него самого. Та «музыка милосердия и правды», которую услышал в книгах Чехова (даже сквозь плохие переводы) его ирландский почитатель Шон О'Кейси1, была органически свойственна Чехову как целостная, монолитная система, а не случайное сцепление разрозненных, художественно ценных кусков - то прозаических, то нарочито окрашенных лирикой.
Ибо не отдельные места поэтичны у Чехова, поэтичен весь его текст - от первой до последней строки. Поэтично пламенное его милосердие. Поэтично стремление его творческой мысли - особенно в позднейшие годы - всякий раз ставить каждый изображаемый им эпизод в тесную связь с необъятно ши 1 Английские писатели и критики о Чехове // Литературное наследство. Т. 68. М" 1960. рокими темами, мучающими человечество с древних времен: о сущности любви, о смысле жизни, об ужасах социальной неправды, так что всякий самый малый сюжет разрастался у него чуть не до вселенских размеров, как произошло это с новеллами «Черный монах», «Студент», «Страх», «Дама с собачкой», «В овраге», «Ионыч».
Разве такое изображение мелких событий на фоне огромных раздумий и чувств не способствует их поэтизации в тысячу раз сильнее, чем включение пейзажа в ткань повествовательной прозы, подмеченное наблюдательным критиком?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: