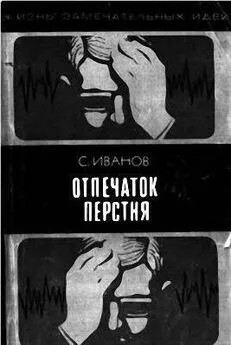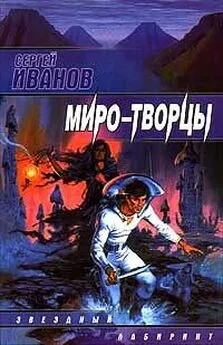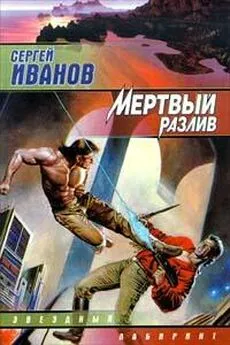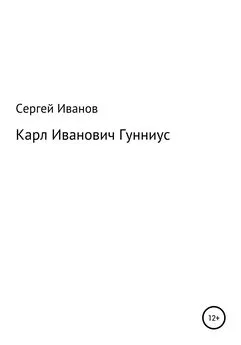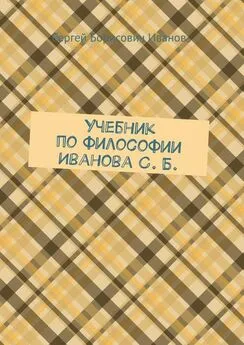Сергей Иванов - Отпечаток перстня
- Название:Отпечаток перстня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Иванов - Отпечаток перстня краткое содержание
Отпечаток перстня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ассоциационистам возражали. Ассоциации по смежности, говорили им, столь родственные рефлексам, хороши лишь для механической памяти. А где же цели, мотивы, понимание? Многого ли можно добиться одним повторением? Смешно, конечно, отрицать роль ассоциаций: они помогают нам припоминать забытое. Но ведь у нас есть намерения, есть ум. Он комбинирует и выбирает, окончательное решение принадлежит ему. Захотелось нам порассуждать о тех же ассоциациях в манере Генриха Гейне, и ум отвел нам на это удовольствие, которое можно растянуть до бесконечности, две страницы и не разрешил ни на йоту отклониться от темы. Как справедливо сказал А. Н. Леонтьев в своей книге «Развитие памяти», есть принципиальная разница между «мне вспомнилось» и «я вспоминаю». В первом случае наша мысль покорно следует за ассоциациями, во втором ассоциации следуют за мыслью. После долгих дискуссий ассоциации по смежности потеснились и уступили место всем прочим ассоциациям, которые были обнаружены за двести лет. Самое же почетное место было отведено ассоциациям словесно-логическим, смысловым, которые, как решили психологи, и определяют собой специфику человеческого мышления и человеческой памяти, направляя их на уловление связи вещей, разумное предвидение и творческие акты во всех сферах жизни. Перелом этот наметился к началу XX столетия и завершился в 30-х годах. К тому же времени у психологов сложилось и общее представление о процессах воспроизведения,
НЕИЗБЕЖНОСТЬ И КАПРИЗ
О
бнаруживая себя в воспроизведении, память питает наш ум и наши чувства. Мы действуем и думаем, беспрерывно вспоминая – непосредственное ли прошлое, угадываемое ли будущее, чью модель неустанно набрасывает и подправляет мысль,- все равно. Едва появившись на свет, мы начинаем запоминать окружающее, и следы нашей памяти становятся участниками восприятия. Ребенок улыбается матери, тянется к погремушке. Это узнавание- самая простая форма проявления памяти. Узнавание развивается прежде других форм и лет до четырех почти не дает им ходу. Да это и естественно: ведь первой у детей возникает способность к непосредственному и механическому запечатлению образов мира. Только к школе наша память становится относительно независимой от восприятия. Нам уже есть что вспомнить. Правда, впоследствии мы с трудом будем вспоминать свое младенчество. Эпизоды ранних лет мерцают в нашей памяти разрозненными огоньками. Психологи объясняют «младенческую амнезию» тем, что в ту пору в памяти еще не сложились связи, обеспечивающие единство личности (хотя Кант и в грош не ставил память, но эта мысль принадлежит ему). Плохо помним мы и годы созревания, когда наша личность претерпевает перестройку, вызванную перестройкой физиологических аппаратов. Но все это не означает, что наша память хоть на минуту прекращала свою работу. Все перестройки идут плавно и незаметно для сознания.
Бегут годы. Все чаще и чаще от наглядных образов мы переходим к представлениям, от непосредственного запоминания к речевым и логическим связям. Память оттачивается в общении и деятельности – в играх и занятиях, в зрелищах и чтении, наконец, в работе. Переживания становятся острее и глубже, восприятие тоньше; все завоевания ума и чувств делаются достоянием памяти. В детстве ее приобретения прочнее, в зрелости обширнее. Обширнее и сложнее становятся и формы узнавания. Мы идем по привычной дороге, машинально сворачиваем к дому, раскланиваемся со знакомыми – во всем этом, как и в младенческих узнаваниях, нет еще и тени сознательного отождествления нового восприятия с предшествующим. Нет сознательного отождествления и при «ощущении знакомости»: мы убеждены, что знаем этого человека, но откуда? Отождествления еще нет, но сознание уже готово к нему, мысль уже пустилась на поиски, идет акт познания – самая сложная форма узнавания.
Мышление помогает нам познавать мир в его взаимосвязях, ориентироваться в новых условиях и решать возникающие перед нами задачи. Знакомимся ли мы с новым материалом, пытаемся ли припомнить забытое, устанавливаем ли причинно-следственную связь – во всех случаях мы преодолеваем препятствие. Пассивный поток цепляющихся друг за друга ассоциаций, который свойствен непроизвольному воспроизведению, лишенному характера узнавания, замирает, натолкнувшись на это препятствие, автоматика останавливается, пребывавшая в полумраке сцена сознания освещается ярким светом. Начинается работа мысли, поддерживаемая работой памяти, активным воспроизведением следов прошлого опыта – представлений, навыков мышления, тех же ассоциативных связей, но возникающих уже не как им вздумается, а по воле припоминания. И здесь, как и во всех случаях воспроизведения, проявляется неумолимая закономерность – воздействие на прошлый опыт самого процесса воспроизведения. Память дает нам не репродукцию, а реконструкцию. Сматывание и разматывание клубков-схем не проходит даром для нитей, подвергающихся осмысливанию. Представление или наглядный образ извлекаются из прошлого, но оперирует ими наше настоящее. Оно примешивает к ним новые образы, новые связи, новые ощущения и, ставя их в подчинение решаемой задаче, оставляет в тени одно, бросает свет на другое, а третье сгущает до великой правды искусства. Я сомневаюсь, чтобы Гоголь слышал в молодости весь описанный им оркестр поющих дверей. Слышал один какой-нибудь скрип, и вот, когда писались «Старосветские помещики», этот скрип всплыл из глубин памяти и заставил гениальное перо Гоголя изобрести целый сонм поющих дверей, в существование которого он уверовал, может быть, и сам, после того как рассказал о нем. Документального подтверждения этой нашей гипотезе нет, зато есть другое: сохранившиеся черновики работы над «Шинелью», показывающие, как под влиянием тех мыслей и того настроения, в котором Гоголь находился тогда, менялся до неузнаваемости первоначальный факт, рассказанная Гоголю история про чиновника, который уронил в воду ружье, купленное на долго копившиеся деньги, история, кончившаяся вполне счастливо, а поэтому не трагическая, а комическая. Возьмите того же «Хаджи Мурата», о котором мы уже упоминали. В жизни Толстой один раз натолкнулся на сломанный куст «татарина», а в прологе к повести встреча с кустом происходит дважды. От первой встречи рождается только ощущение: какая сила жизни! Вторая уже окрашена болью и гневом, а «татарин» уже живой человек, со сломанной рукой, с выколотым глазом, это уже не репей, а Хаджи Мурат. Две встречи понадобились Толстому-художнику для того, чтобы ярче выразить свое отношение к разрушительности человеческой деятельности, чтобы настроить и себя, и читателя на определенный лад. Репей уже в первый раз напомнил ему Хаджи Мурата, но творческая интуиция потребовала, чтобы это произошло во второй. В противном случае не написался бы пролог, а может быть, и вся повесть. Двух этих историй с «Шинелью» и «Хаджи Муратом» достаточно, чтобы увидеть не только одну из главнейших особенностей искусства, но и трансформирующую роль воспроизведения, определяемого осознаваемой или бессознательной установкой личности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: