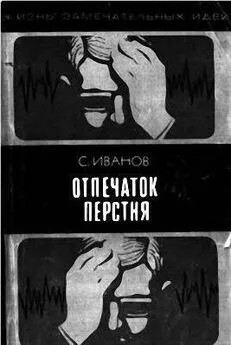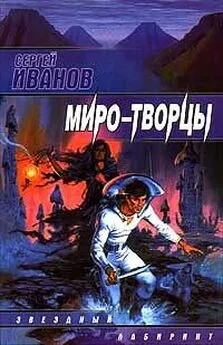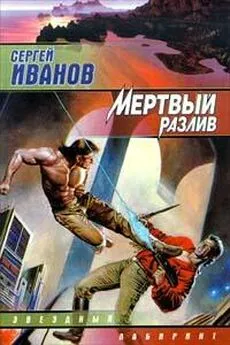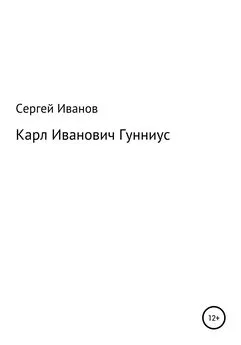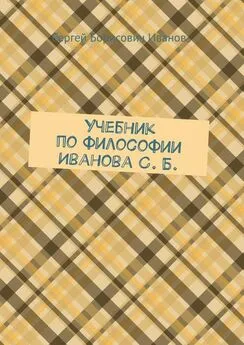Сергей Иванов - Отпечаток перстня
- Название:Отпечаток перстня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Иванов - Отпечаток перстня краткое содержание
Отпечаток перстня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В рассуждениях Гюйо чувствуется влияние популярной в конце XIX века идеи параллелизма между филогенезом и онтогенезом, то есть между эволюцией вида и развитием отдельного индивидуума, причем не только в биологическом, но и в социальном аспекте. Что касается нашей проблемы, этот параллелизм вполне оправдан. Ребенок улавливает идею будущего раньше, чем идею прошлого. У него все впереди; идея прошлого появится тогда, когда появится само прошлое, вместе с сознательной и опосредствованной памятью. То же было и с первобытным человеком.
По мнению этнографов, одно из первых открытий, которое сделал наш предок в своих представлениях о времени, было осознание неотвратимости смерти. Открытие это наполнило его ужасом, как наполняет оно каждого из нас, когда мы совершаем его в детстве. И подобно тому как мы инстинктивно отгоняем от себя мысль о смерти, и, научившись представлять себе любые парадоксы Вселенной, так никогда и не можем представить себе собственное небытие, первобытный человек стал инстинктивно стремиться к тому, чтобы перехитрить время и покрепче закрыть за него глаза. Сделать это можно было одним способом: увековечить прошлое в ритуалах – в одних и тех же жертвах, приносимых богам в одни и те же дни, в одних и тех же обрядах. Жизнь следовало превратить в непрерывное настоящее. Память нашептывала человеку, что все повторяется: день и ночь, солнце и луна. Вот образец для жизни. Непрерывное повторение стало для него главной заботой. Нет, не так уж страшна смерть! Умирая, человек просто переходит в другой мир, и надо позаботиться о том, чтобы ему там было удобно. Надо положить рядом с умершим оружие, одежду, пищу, даже фигурки, символизирующие материнство: в загробном мире все повторится и будут рождаться дети. Человек еще не придумал богов, но уже придумал бессмертие, а с верой в него. установились и первые обычаи – проявления коллективной памяти человечества. Чтобы соблюдать эти обычаи, надо было научиться измерять время. Искусство измерения времени, связанное с познаниями в астрономии, и поражает нас прежде всего в древних цивилизациях. У некоторых народов это измерение стало даже навязчивой идеей. Таковы, например, майя, воздвигавшие свои алтари и обелиски только затем, чтобы отметить окончание какого-нибудь периода, и изображавшие своих богон в виде носильщиков, чьи ноши символизировали собой определенные промежутки времени. Но эти боги шествовали не вперед, от прошлого к будущему, а по кругу. Идея времени отождествлялась с идеей повторяемости одних и тех же событий. Подобная же философия круговорота воплотилась в древнеегипетских мифах об Озирисе и о боге Луны Тоте. Мотивы круговорота звучат еще в философии досократиков, у ветхозаветных пророков. Постепенно они затухают, и с появлением первых преданий и исторических сочинений люди начинают осознавать свое прошлое не как миф, а как неповторимую реальность.
Вместе с развитием представлений о времени развивается и та память, которую принято называть исторической. Чтобы воспроизведенный образ явился заместителем минувшего оригинала, мы должны отнести его к прошлому, мыслить его в связи с именами и событиями, характеризующими его дату. Такое мышление пришло к человеку не сразу. Миллионы лет ушли на выработку памяти движений и памяти простых эмоций. Тысячелетия длилось господство образной памяти и конкретного мышления. Человек учился запоминать все шорохи леса, все запахи зверей, значение собственных жестов и звуков, приемы охоты, способы изготовления орудий. Путешественников изумляла когда-то механическая память дикарей. Без запинки повторяли они за миссионерами их проповеди, не понимая в них ни единого слова. В их детской, почти эйдетической памяти все отпечатывалось мгновенно, но, к досаде миссионеров, столь же мгновенно начинало выцветать: звуки проповедей и даже с грехом пополам понятый их смысл не имели ничего общего с повседневной жизнью дикарей. Образная память, однако, неудобна для общения, а без общения племя не может существовать. Человеку надо было научиться передавать поручения и толково рассказывать о случившемся. В этих пересказах оттачивалась чисто человеческая, социальная память, которой, как говорил Жане, уже свойственна «реакция на отсутствие», то есть сознательное отнесение события к прошлому, к тому, что «уже позади». На этой стадии, по мысли Леонтьева, копии событий начали сгущаться в словеснообразные экстракты. Совершенствуя свою память, человек изобрел первые средства для запоминания – камешки, узелки, зарубки на палочках, служившие символами отдельных мыслей. В эпоху узелков и зарубок он уже умел отличать прошлое от будущего, а когда развилась настоящая письменность, начал постепенно осознавать, что обладает памятью и что она неразлучна с его представлениями о времени.
Древние греки верили в загробную жизнь, но, судя по жалобам Ахиллеса, которого встретил в подземном царстве Одиссей, жизнь эта была малопривлекательной. Тем, кто был озабочен своею судьбой, пифагорейцы и Платон предлагали взамен более захватывающую теорию переселения душ, чьи земные воплощения были к тому же «ослабленными» копиями вечно живущих прототипов. Тут было над чем поломать голову, а это занятие в Элладе считалось весьма почтенным. У Платона связь памяти со временем, хоть он и не говорит о ней прямо, очевидна. Аристотель же не только говорит о ней, но еще и подчеркивает, что без представления о времени памяти быть не может. Если, пишет он, животные и могут обладать памятью, то лишь те, которые имеют понятие о времени.
Принимаясь за размышления о таких категориях, как время и пространство, древние вообще проявляли удивительную проницательность, которой часто не доставало сенсуалистам и эмпирикам XVIII и XIX веков, все па свете выводившим из чувственного восприятия и опыта. Если бы в нашем мире вдруг перестало существовать пространство, то вместе с ним перестало бы существовать и время. Такими словами Эйнштейн объяснял непосвященным суть своей теории, этого детища XX века и чистого, не привязанного к показаниям чувств, логического размышления. Перефразируя Эйнштейна, можно было бы сказать, что время возникло вместе с пространством. Именно так или почти так думали древнегреческие философы. И именно так думают сегодня и астрофизики, сторонники теории расширяющейся Вселенной, обнаружившие, что у мира было «начало».
Когда такое утверждение исходило от церкви, люди серьезные пожимали плечами. Но когда о начале мира заговорила наука, это произвело настоящую сенсацию. Ватикан даже заявил, что теперь между наукой и церковью нет разногласий. Однако заявление было чересчур поспешным: наука подразумевала под началом мира не акт божественного творения, а чисто физический акт, состоявшийся во Вселенной, чью безграничность в пространстве и времени никто не оспаривал. Речь шла не о мире и не о Вселенной вообще, а о нашей Метагалактике. Астрофизики вычислили, что 15 или 17 миллиардов лет назад вес ее галактики были собраны в правещество и вылетели из него в результате взрыва. Правещество могло родиться от одной единственной элементарной частицы, подвергшейся самопроизвольному распаду. Сама же частица образовалась в так называемой статической Вселенной, где до тех пор не было ни одного события, ни одного направленного процесса, то есть в физическом смысле ни пространства, ни времени. Рождение этой частицы и было рождением мира – нашей Метагалактики. За первой причиной возникло первое следствие – распад следующих частиц. Мир стал жить в одну сторону. В том, что причины не могут появляться у нас после следствий, и обнаруживается направленность времени. Что с возу упало, то пропало – таково наше представление о прошлом; чему быть, того не миновать – таково представление о будущем. Второе менее определенно, чем первое, но это и понятно: о прошлом мы знаем, а о будущем только догадываемся. Как говорил Аристотель, прошлое является объектом нашей памяти, а будущее объектом наших надежд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: