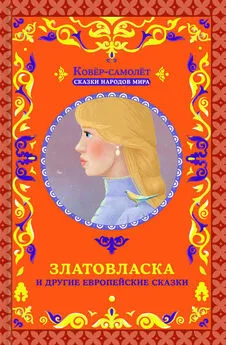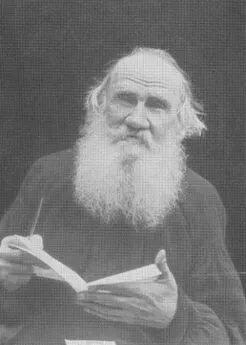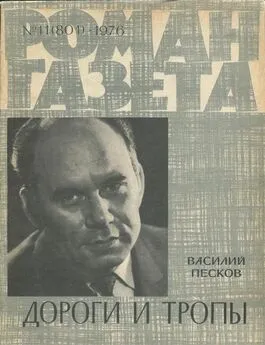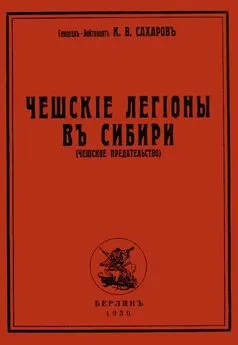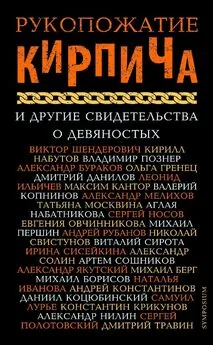Array Array - Фасциатус (Ястребиный орел и другие)
- Название:Фасциатус (Ястребиный орел и другие)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада-пресс
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-309-00212-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Array - Фасциатус (Ястребиный орел и другие) краткое содержание
Сергей Полозов ― орнитолог, долгие годы наблюдающий за повадками птиц. Человек с внимательным взгядом, он замечает то, что проходит мимо внимания многих других людей. У автора собрался обширный материал о наблюдениях за птицами, встречах с людьми, раздумьях о жизни. Листочки дневника постепенно, как камешки мозаики, сложились в картину окружающего мира, и часть этой картины мы предлагаем вниманию нашего читателя.
Фасциатус (Ястребиный орел и другие) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Спрос на это топливо возрастает пропорционально росту и концентрации населения; в соответствии с этим увеличиваются и браконьерские рубки. Причем ведутся они все более безоглядно, без малейшего понимания того, что рубится сук, поддерживающий собственное гнездо. Уже сейчас топлива катастрофически не хватает, чурек превращается в праздничное блюдо для особых оказий, в магазине за прозаическими буханками выстраиваются огромные очереди, ― усложняются повседневные бытовые проблемы, рушится привычный уклад жизни людей, на глазах исчезает важный элемент культурного своеобразия региона.
В окрестностях Кара–Калы тугаи оказались вырублены настолько, что местное руководство уже просто вынуждено было на это как‑то реагировать. Обезображенные берега Сумбара с торчащими из опустевшей земли занозами вырубленных кустов решено было включить в хозяйственный оборот в новом качестве: их распахали, удалив из почвы отмирающие корни растений, являвшиеся последним сдерживающим эрозию фактором.
Результаты этого привычного для нас командного земледелия сказались уже следующей весной. Паводок после первых сильных дождей драматически изменил весь ландшафт целиком: Сумбар, исходно текущий в узком глубоком русле, закрепленном тугаями, предался бесконтрольному разгулу, ― лишенные растительности и распаханные берега рушились в буквальном смысле на глазах.
Стоя и наблюдая это, не решаясь подойти к краю подмываемого обрыва, я вздрагивал от устрашающего грохота обваливающейся в воду земли: минута, и ― у–у-х! ― кусок берега размером с кузов многотонного грузовика рушится вниз. Через две недели после паводка Сумбар в этом месте тек среди обширных намытых отмелей, а русло его было уже не десять метров шириной, как ранее, а достигало местами двухсот метров, делая пейзаж неузнаваемым.
Жизнь тоже изменилась здесь радикально: исчезли десятки видов птиц, населявших тугайные заросли, появились единичные новые, осваивающие вновь образовавшийся ландшафт. Интересно было, конечно, увидеть летящего над водой, как где‑нибудь в Вологодской области, кулика–перевозчика или стоящую на пустынной отмели цаплю, но даже ее согбенный силуэт воспринимался как траурный караул былому разнообразию птичьего мира. Я по привычке говорю про птиц, а ведь они составляют хорошо заметную, но лишь очень малую толику всеобщего хитросплетения живой природы, большей частью невидимого для непосвященного взгляда.
Случаются ли подобные явления в дикой природе, не нарушенной человеком? Конечно. Но естественные тугайные сообщества обладают удивительной способностью быстро восстанавливаться после стихийных катаклизмов, подобных селевым размывам. Измененные же человеком ландшафты, во–первых, страдают в десятки раз сильнее, а во- вторых, никогда не восстанавливаются потом в столь полной мере.
Перевыпас (а он в долине Сумбара, по оценкам сотрудников заповедника, в описываемый период превышал допустимые нормы в шестнадцать раз) еще страшней, чем рубка. Особенно козы, выедающие абсолютно все без разбора ― от корней трав, выгрызаемых ими из‑под земли, до кустов, коры и нижних ветвей погибающих впоследствии деревьев. На сотнях тысяч квадратных километров в Копетдаге, даже в местах, где можно провести месяц, не встретив ни одной живой души, трудно найти один квадратный метр, не испещренный следами овец и коз. Многие урочища выбиты скотом полностью и уже необратимо превращены из цветущих степей и тенистых экзотических лесов, увитых диким виноградом, в навсегда потерянные для природы и для человека, разрушенные эрозией и подверженные засолению бэдлэнды ― жаркие пыльные пустыри.
Некоторые из них, претерпевшие особо драматические изменения, потеряли не только исконные растительные сообщества, но и почвенный слой, утратив тем самым основополагающую способность поддерживать жизнь как таковую. Их безжизненный облик дал им и название ― «лунные горы». Печальная метафора.
Экономические и социальные последствия пробных трансформаций очевидны. Давеча в Кара–Кале два дня подряд была «драка с милицией» (мы не участвовали) ― в магазине давали мясо… И это ― в скотоводческой стране!»
ПТИЧИЙ РЫНОК
Гости перемигнулись друг с другом, глядя на чаши, и в душе их окрепли нечестивые помыслы…
(Хорасанская сказка)…англичане не так жадны, как русские, которые… объявили леса казенными и стали продавать деревья их же прежним собственникам.
(Н. А. Зарудный, 1916)«10 октября…. Не хочу без разбора катить бочку на соотечественников (многие из которых посвятили всю свою жизнь охране природы Туркмении), но все же в немалой степени способствовали деградации природных сообществ Туркестана и выходцы из России, волею судеб оказавшиеся в этой абсолютно чужой для них природе и культуре. Понятно, конечно, что в прокаленных солнцем скалах и в пустыне истосковавшейся по родным зеленым просторам российской душе требуется отдохновение, но все же грузовики вырубаемой под Новый год (за неимением новогодних елок) вечнозеленой арчи ― это слишком.
Двухметровая арча растет порой восемьдесят, а то и сто двадцать лет. Срубить ее нетрудно двумя ударами топора, но восстановить арчовые леса невозможно, даже если и попытаться это сделать. Туркмены, пока это было возможно, выборочно рубили тысячелетние деревья, используя их для строительства домов (арча ― это вечная древесина, ее не повреждают даже термиты), пограничники сейчас уничтожают подрост (да, именно так, столетние деревья ― это всего лишь еще молодая поросль…).
Наконец, отдельной проблемой охраны природы является контрабанда редкими видами животных. Туркмения богата эндемиками, не встречающимися в более северных широтах, цены на черном рынке баснословны; многое, вывозимое отсюда, уходит не только на «Птичку» в Москву, но и прямиком за кордон.
Никто не считал, какое количество редких ящериц змей, насекомых незаконно вывезено отсюда в припрятанных мешочках и коробочках. А каким образом птенцы балобана (он ― один из основных ловчих соколов, каждый экземпляр которого незаконно приносит десятки тысяч долларов) попадают из нашей Средней Азии в Арабские Эмираты?..
Во всем этом есть некая особая пакость и дьявольщина, потому что занимаются этой контрабандой люди, разбирающиеся в природе (назвать их зоологами не поворачивается язык).
Ни в кого сейчас огульно не кидаю камнями и никого нм оправдываю. Меньше всего хотелось бы делать это с позиций политических или национальных сравнений. Но уж) больно безрадостна действительность и настораживающи перспективы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: