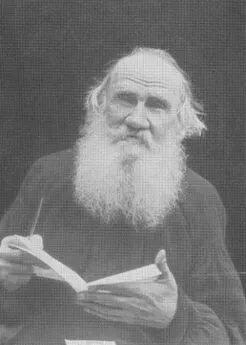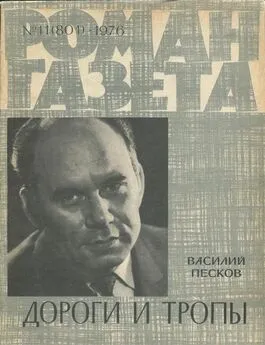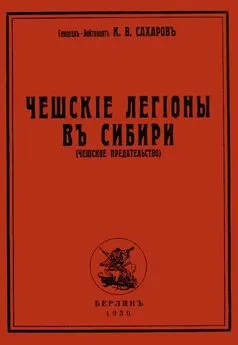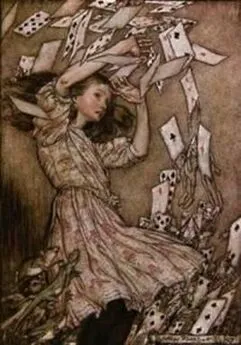Array Array - Планета–тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю
- Название:Планета–тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада-пресс
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-309-00397-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Array - Планета–тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю краткое содержание
Планета–тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ночью меня разбудило злое ворчание собаки. Дверь у нас никогда не запиралась, и я осторожно подошел к окну, чтобы узнать, кто нарушил ночной покой. За окном никого не было, но собака зарычала громче и с хрипом двинулась к дверям. Я привязал собаку, взял ружье и открыл дверь. Рядом с избушкой сидели волки, те самые волки, которые не так давно были нашими мирными соседями…
Тайга, ночь… А если бы я не привязал собаку? Остановили бы тогда волков какие‑нибудь мирные договоры?
В волков можно было стрелять, но я по примеру Василия и Петра предпочел разговаривать с волками иначе. Мое ружье выстрелило несколько раз по вершинам деревьев. Волки исчезли. Нет, они не ушли из тайги, они еще много раз показывались в наших местах, по–прежнему выдерживая расписание своих походов, но мое хозяйство упорно обходили, как обходили прошлой осенью нашу деревушку, когда из нее разносились по тайге громовые выстрелы…
Глава шестнадцатая
СЛЕДЫ НА ВОДЕ
У нас плотву называют сорогой. Сорога всегда казалась мне глупой рыбой. Сороги много — стадо спасает вид от разорения, — и я не раз удивлялся той невозмутимости, с которой стая этих рыб пересекает чистую полосу озера, предоставив себя на это время в безвозмездную жертву окуням и щукам.
Я подбирался к стайкам сорог и предлагал им наживленный крючок. Если я не шумел, а рыбам не мешала гроза или тяжелый восточный ветер, то сорогу можно ловить без конца. Рыбешки срывались с крючка, падали обратно в воду, испуганно бросались в сторону, следом за ними скрывались в зарослях и остальные сорожки, но проходило всего несколько секунд — и стайка в полном составе снова вертелась около моего крючка.
Я пытался поступать и по–другому. Пойманных рыбешек я отпускал обратно и поодиночке, и небольшими группами. Сорожки, узнавшие не только укол крючка, но и лодку, и руки человека, вроде бы должны были увести от опасного места всю стайку. Увы! Стайка, сбежавшая было за освобожденными пленниками, не могла запомнить опасного места, опасной снасти. Пойманных рыбешек я метил, считал, отпускал обратно, скоро мне начали встречаться стайки, где почти все рыбешки были помечены, но даже такие стайки не становились осторожнее…
С окунями удавалось проделывать то же самое. Но окуни могли сбежать от меня надолго. Полосатые рыбы после беспокойного плеска попавшегося на крючок «товарища» нередко почти тут же исчезали. Еще более убедительную информацию об опасности передавал стае сорвавшийся с крючка «товарищ», тогда окуневую стайку не удавалось дождаться на прежнем месте в течение целого дня. Окуни оказались осторожней сороги — они умели запомнить опасное место.
На окуневых хвостах тоже стали появляться мои метки, стали появляться в озере знакомые мне отряды окуней, для этих отрядов побег «товарища» или возвращение пленника также служили неплохим уроком, но уже назавтра урок забывался, и окуни вновь представали перед неизбежной гибелью, представали в то же самое время, на той же подводной тропе, строго придерживаясь своего расписания…
Сороги и даже окуни не очень радовали меня своим «умом», но щуки постепенно начинали вызывать особое уважение. Быстрые хищные рыбы умели лучше приспособиться к изменению обстановки, умели гибко изменить тактику и стратегию охоты, перейти от стационарных засад к скрадыванию и к подвижным засадам. Щука была индивидуалистом, от своих собратьев она могла ожидать только нападения и, наверное, поэтому вынуждена была «думать» сама о себе… Да, можно было разгромить одну, две, три окуневые стаи, можно было изрядно побеспокоить сорогу, но выловить, не прибегая к сетям, всех щук в озере было нельзя.
Порой озеро казалось пустым, казалось, в нем нет никаких щук. Но щуки были, на тех же местах продолжали свои охоты за теми же жертвами, теперь упорно игнорируя снасть человека… Были на Долгом озере такие щуки, которым трех, двух, а то и одной ошибки с неминуемым уколом о крючок вполне хватало, чтобы не на один день запомнить опасность. Причем щуки «помнили» именно источник опасности — снасть человека, оставляя засаду для дальнейшей охоты. Знать источник опасности, а не опасное место, уметь дифференцировать — это было уже верхом подводного «интеллекта»…
Близкое знакомство с «интеллектом» рыб стало неминуемым условием для человека, который выбрал своей специальностью ловить рыбу… Новые открытия, новые уроки и, казалось бы, новые успехи в работе. Но мои успехи по–прежнему носили характер нестационарного процесса. Правда, на графике моих уловов в отличие от кривых полного хаоса все‑таки можно было обнаружить некоторую закономерность, которую год назад премудрый дедка Степанушка выразил простыми, но многозначительными словами: «Сначала девять, потом шесть, потом три, а дальше Чертушка совсем отвернется от рыбака…»
Отвернуться от меня совсем хозяину воды не удалось. Первая встреча состоялась под самую зиму, в последние дни открытой воды. У берегов тогда тяжело и глухо билась густая, мутная шуга. Лодка оплывала по бортам льдом, весло все время приходилось окалывать ножом, иначе оно быстро тяжелело и выскальзывало из рук. Плавать уже было опасно; надеяться на быстрый маневр при неожиданной волне или резком порыве ветра было так же смешно, как и надеяться выйти из ноябрьского озера сухим… И в это время Чертушка и попался на мой крючок. Сначала червь, потом ерш, а на ерша окунь. Это был рядовой бесшабашный житель Домашнего озера. Ему не хватало солидной осмотрительности своих старших собратьев, и он еще позволял себе необдуманные поступки. Окунь расхорохорился и проглотил здоровенного ерша… Пожалуй, я освободил бы незадачливую рыбешку, но Чертушка предупредил акт милосердия. Чертушку, видимо, сгубили стяжательство и неразборчивость в средствах. И я не собирался его отпускать…
Дома я еще раз убедился, что хозяином озера оказалась все‑таки щука, а потом взвесил рыбину. Взвешивать пришлось по частям, ибо мой пружинный динамометр был рассчитан только на пять килограммов.
Не помог мне и десятикилограммовый динамометр при встрече с «хозяином» на этот раз уже Долгого озера…
Есть на Долгом озере большой и мрачный залив. Скорее всего, это самостоятельное озеро, которое, по обычаю местных жителей давать своей географии простые и понятные имена, я называл Дальним. С берега в залив давно уже падали старые, уставшие стоять у воды ели. Ели падали друг на друга, теряли ветви, обрастали скользким зеленым мхом и теперь торчали по всему заливу мертвыми корявыми рогами. До мрачного залива меня всегда провожали птицы. Я слышал голоса уток, «ку–ку–вы» гагар и частые свисточки куликов. У залива птицы стихали, оставались сзади — мрачный залив всегда молчал. Но как раз в этом заливе, видимо, и обитал главный «хозяин» местных водоемов…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: