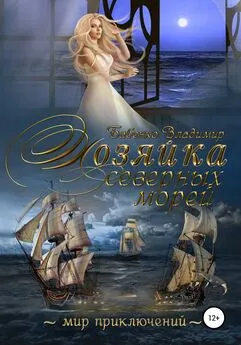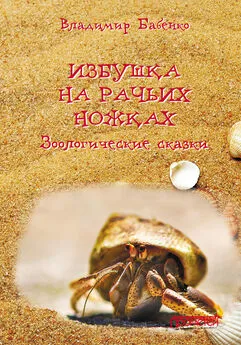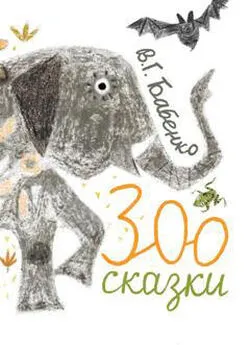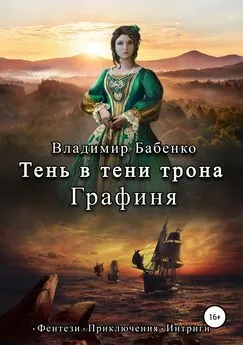Владимир Бабенко - Лягушка на стене
- Название:Лягушка на стене
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРМАДА
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0744-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бабенко - Лягушка на стене краткое содержание
Автор книги «Лягушка на стене» Владимир Бабенко, профессиональный зоолог, долго проработавший в МГУ им. М. В. Ломоносова (ныне преподает в МПГУ). Во время своих дальних командировок ему приходилось наблюдать самых разных животных. Однако эта книга посвящена не только лягушкам, птицам и зверям. В экспедициях зоологи встречаются также и с людьми — лесниками, егерями, охотоведами, рыбаками, браконьерами и прочими скитальцами. Такие встречи, как правило, связаны с неординарными личностями, с интересными событиями, с неожиданными приключениями. Это, так сказать, побочный продукт экспедиционной работы, впечатления, имеющие косвенное отношение к зоологии. На их основе автор и написал книгу, показав работу людей редкой специальности — зоологов-полевиков и поведав, что с ними случается во время путешествий.
О научной работе зоологов говорят монографии, книги, статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывался и что остается «за кадром», известно немногим. И этому тоже посвящена книга «Лягушка на стене». Некоторые из рассказов веселые, другие грустные, третьи драматичные. В общем, так, как бывает в экспедициях, да и в обычной жизни тоже.
Лягушка на стене - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К сожалению, у нас не было замечательных шведских печек, на которых можно было готовить прямо в палатке. Однако, на наше счастье, с дровами проблем не было — на берегу всегда можно было найти плавник. Лишь однажды у нас возникли сложности с костром. Почти сутки шел проливной дождь при очень сильном ветре. Мы отсиживались в палатке. Плотный Юра, как всегда, легко переносил голод, а вот я не выдержал и, запаковавшись в плащ, вылез из палатки наружу — разводить костер. И хотя мы загодя набрали много дров, они были насквозь мокрые. Сухой спирт никак не удавалось зажечь даже с подветренной стороны палатки. Мне пришлось дважды, нарушая покой спящего Юры, залезать внутрь, разжигать белую таблетку в своей кружке (один раз ветер загасил ее) и только потом с большим трудом зажечь мелкие щепочки. Зато потом у меня получился настоящий шедевр: бревна, раздуваемые ураганным ветром, горели так жарко, что их не мог залить вовсю хлещущий дождь, а под костром плескалась лужа, так как в тундре сухого места в тот день не было вообще.
Нашим основным средством передвижения была десантная или спасательная надувная лодка ЛАС-3. В ней при полной загрузке практически не оставалось места для нас — ведь в лодке лежали два рюкзака, ящик с продуктами, ружье, патроны, посуда, сети, инструменты и другое совершенно необходимое барахло.
Я сидел на переднем «капитанском» сиденье — на деревянном ящике, на который для большей комфортности (а проще — для того, чтобы не отсиживать зад) я стелил в зависимости от погоды плащ, пуховку или свитер. Прямо передо мной в полиэтиленовом пакете лежали компас и карты, бинокль, а на борту привязанное к лодке ружье. Сидевший сзади Юра жил более комфортно — он размещался на одном рюкзаке и спиной упирался во второй.
Естественно, при такой тесноте не могло быть и речи о том, чтобы грести веслами как положено — с использованием уключин. И мы гребли как индейцы в каноэ. Гребля на ЛАСе была непростым делом. Особенность гидродинамики нашей лодки заключалась в том, что для того, чтобы увеличить скорость этого резинового изделия в два раза, надо было приложить усилий на весла вчетверо больше, чем на шлюпке или байдарке.
Мы сначала никак не могли взять в толк, что просто должны были помогать реке нести нас и что весла — это скорее декоративные украшения лодки, чем средства передвижения, особенно на стремнине, и первые дни нервничали, видя, что все усилия попасть в тот или иной рукав ни к чему не приводят и река быстро, но равнодушно затаскивает нас вместе с другим плывущим сором в нужное ей, а не нам русло.
В первый, стартовый день нашего путешествия, выходя из спокойного затона (где мы обкатывали лодку и подбирали такелаж) и подплывая к основному руслу Фомича, мы начали нервничать метров за двести — именно с этого расстояния с реки слышался ровный гул несущейся мимо нашего залива вздувшейся от весенних дождей и таяния снега реки. Мы сделали несколько последних гребков по спокойной воде и вытолкнули лодку на течение. Мутная река подхватила ЛАС, ударила в днище невидимыми бурунами и понесла лодку если не со скоростью автомобиля, то, по крайней мере, велосипеда. Осознав свое полное бессилие перед рекой, мы перестали судорожно махать веслами и только держали лодку носом по течению, не позволяя реке нести нас рядом с берегами — там, где могли быть коряги, скрытые водой ивовые кусты или камни. Если не обращать внимания на мелькание берегов, то скорости не чувствовалось — прошлогодние листья, щепки, ветки, куски торфа двигались вниз по течению реки в том же темпе, что и наша лодка. Через полчаса страх перед рекой прошел, и мы с удовольствием начали рассматривать мелькающие берега, а я достал записную книжку и стал вести орнитологические наблюдения.
Только через неделю, когда паводок на Фомиче спал, мы поняли, какое было для нас благо половодье. Река обмелела на несколько метров, и в некоторых местах мы плыли словно в глубоком каньоне и обозревали уже не прекрасные пейзажи весеннего лиственничника, а грязевые отмели, галечниковые косы, подмытые торфяные обрывы, а где-то далеко вверху виднелись уже хорошо озелененные лиственничные леса. Исчезли водовороты и буруны, вода стала прозрачной настолько, что даже на трехметровой глубине можно было разглядеть каменистое дно. Однако выхолощенная река потеряла свою резвость и скорость. И теперь мы вынуждены были даже при попутном ветре безостановочно махать веслами. А если налетал встречный ветер, то приходилось так упираться, что уже через полчаса начинало тянуть связки на левой руке и ломить в пояснице. Однако на некоторых участках встречались какие-то заколдованные, «мертвые» места, где лодка словно прилипала к воде, и мы двигались так медленно, словно гребли в киселе.
На Фомиче, небольшой горной реке, прикрытой сопками, мы еще могли грести и при встречном ветре (проходя при этом, правда, не более десяти километров в день). А вот когда мы вышли на Попигай, ширина которого в некоторых местах достигала полкилометра, там, где ровные берега были заняты безлесной тундрой, мы вынуждены были ловить попутный ветер и полностью подчинить наш режим ему, двигаясь, когда ветер дул в корму, и отдыхая, когда он бил в нос.
В лодке, после того как наступило лето, комары присутствовали всегда. Насекомые «работали» в противофазе с ветром. Когда он был встречным и нам приходилось затрачивать неимоверные усилия, чтобы проталкивать лодку вперед, наши маленькие серые длинноногие спутники тихо сидели с подветренной стороны судна. Лишь то один, то другой кровопийца взлетал в надежде полакомиться и тут же уносился встречным воздушным потоком. Когда же дул попутный ветер (а попутным для нас, стремившихся к Ледовитому океану, был теплый южный ветер, приносивший солнечную погоду), с подветренной стороны, то есть перед лицом каждого из нас, висела хорошая тучка комаров, которые все время липли к коже, проверяя, не выдохся ли репеллент и не наступило ли время подкрепиться. Насекомые, мельтешившие над нами, тянули бесконечную заунывную песню.
Ярко светило солнце, размеренно работали весла, всхлипывала вода у носа нашего судна, желтели пески далеких берегов, и лодка, казалось, замерла на каком-нибудь нудном пятикилометровом прогоне, далекие берега навечно остались неподвижными, а я в который раз читал жизнерадостные надписи на внутренней части носового баллона нашей десантной лодки: «Ванты вязать только шлюпочным узлом» и «В случае прострела оболочки лодки пробоины затыкать аварийными пробками». На этом фоне комариный писк превращался в далекую ритмическую (весло проходило сквозь их стаю), со сложными импровизациями (порывы ветра) бесконечную песню рабов на галерах. За недели гребли при попутном ветре я настолько свыкся с этими восточными комариными мелодиями, что не мог слушать без раздражения хаотичный писк их сухопутных собратьев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
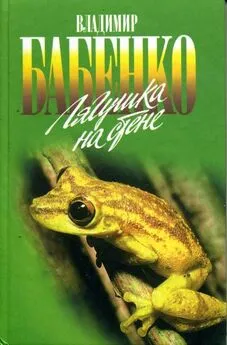

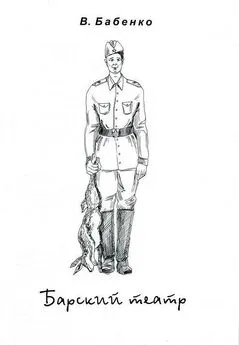
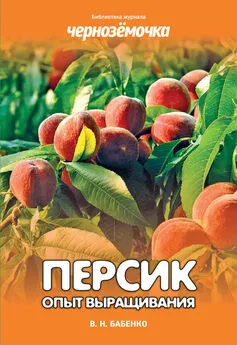
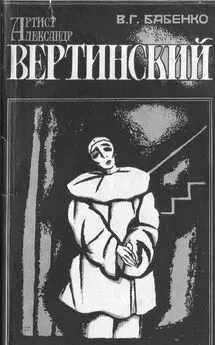
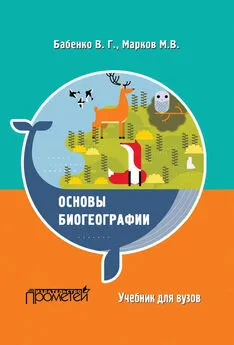
![Владимир Бабенко - Тень в тени трона. Графиня [SelfPub, 16+]](/books/1086792/vladimir-babenko-ten-v-teni-trona-grafinya-selfp.webp)