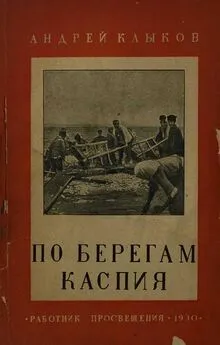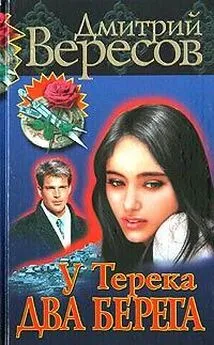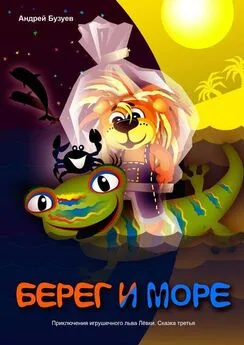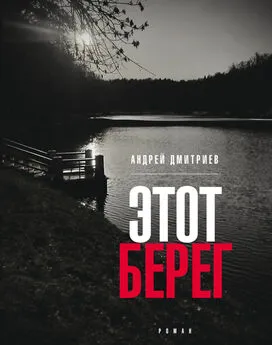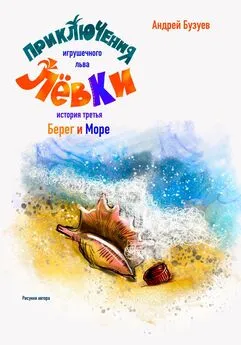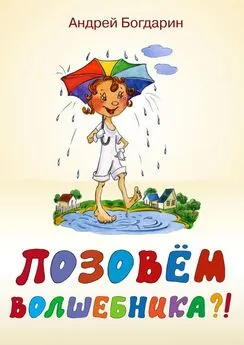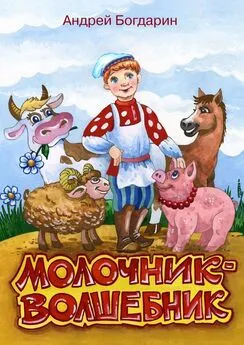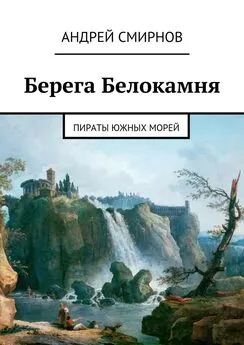Андрей Клыков - По берегам Каспия. От Апшерона до Терека (с 25 фотографиями и картой)
- Название:По берегам Каспия. От Апшерона до Терека (с 25 фотографиями и картой)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Работнк просвещения
- Год:1930
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Клыков - По берегам Каспия. От Апшерона до Терека (с 25 фотографиями и картой) краткое содержание
По берегам Каспия. От Апшерона до Терека (с 25 фотографиями и картой) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Надо мной, между двумя столбами, на проводе, идущем от электростанции к мотору, сидел скворец и, обернувшись к солнцу, трепыхая крыльями, выводил трель, и было видно как колебалось горло.
Отроги Кавказского хребта иногда добегают до моря, рассыпаются на отдельные гряды и камни. Гряды уходят под воду и ступенями спускаются в глубину Каспия. По ним весной с зимних лежбищ [15] Места залегания рыбы.
поднимается сельдь, стремясь к берегу, чтобы выметать икру и дать потомство.
Ей привольно среди подводных камней, над которыми гудит прибой, отгоняя пресную воду горных речек, впадающих в море.
Если подниматься от Апшерона на север до устьев Терека, то не найдешь ни одной хорошей гавани. Остатки скал — мысы Рубас, Дербентский, Турали, Буйнак — делают берег недоступным, а песчаные косы рек создают барьеры, через которые не перепрыгнуть пароходу.
Капитаны, рейсируя по линии Баку — Махач-Кала, забирают подальше от этого берега — на середину Каспия.
— Оно лучше, поспокойнее, — говорят они, посматривая в бинокль на вершины Сара-Дага.
Если бы не искусственный мол, врезавшийся в грудь Каспия, то даже порт Махач-Кала не укрывал бы суда от здешних ураганов.
Нет гаваней — и нет мелкого прибрежного судоходства.
В 1922 году в первый раз у самого моря запыхтел паровоз, и забегали вагоны, соединяя рыбные промыслы с главной магистралью Владикавказской дороги. Шаг за шагом рельсы прорезали берег во всех направлениях, застучал телеграф, и зазвенел телефон.
Если вам надо с Дивичи попасть в Белиджи, отсюда, заехав в Дербент, где вас угостят хорошим местным вином, побывать в Хачмасе — городе яблоков — и Буйнаке, а под конец сесть на пароход, который отходит в 6 часов вечера из Махач-Кала в Астрахань, то все это путешествие вы успеете проделать, благодаря железнодорожному движению, в течение того же времени которое надо пароходу, чтобы сделать рейс между Баку и Махач-Кала.
Иду на станцию, — белый одноэтажный дом среди голой степи, — и беру билет до следующего пункта по направлению к Махач-Кала.
Не успел войти в вагон, как в проходе встречаю знакомого доктора.
— Ба, ба, ба! Вы куда? Садитесь вот сюда к окошку, — он передвигает свой саквояж, и мы усаживаемся друг против друга. Не успеваю ответить, куда я решил ехать, как доктор, он же и «историк», как я мысленно его называю, выпаливает в меня.
— А знаете, на промыслах малярики появились! И откуда? — он удивленно поднимает брови и разводит руками. — Вот еду на Каягент, оттуда на Сулак и затем назад в Гюрген-Чай. — он откидывается назад. — Ведь поймите, — он берет меня за пальто, — комарам сейчас рано быть. Ну, конечно, рецидив [16] Повторение.
, промочил ноги, холод — вот и пожалуйте. Сегодня звонит мне Михал Михалыч, знаете его?
Я утвердительно киваю головой.
— Немедленно приезжайте, привозите хины и прочего, двенадцать человек слегли. Чорт знает, что такое!
— Вот вы и мечетесь?
— Вот и мечусь! — подтверждает доктор.
Говорю, каждый год говорю: выписывайте гамбузию, — рыбка такая есть, которая пожирает личинки комаров, осушайте водоемы у промыслов и хину, хину, хину!
— И что же?
Что же, — доктор ищет в кармане папиросы, — я и малярия нужны, пока не показалась сельдь, а как только попало в невод десятка два-три чанов, так до свиданья! Мы попадаем не только на второй план, а просто за кулисы.
— Не может быть, — сомневаюсь я.
Доктор не успевает возразить, как поезд останавливается. Мне надо уходить. Мы прощаемся.
— Звоните и скажите, где вы, куда и когда вы поедете, — трясет мою руку доктор. — Я вам должен рассказать, как здесь хозяйничали арабские наместники — шамхалы в пятнадцатом веке.
Поезд трогается, и на ходу он успевает докончить:
— Любопытные документы я достал из аула на р. Кумской Койсу, район Кумуха, жителями которого управляли…
Паровоз пускает белый пар, что-то стучит, шипит, а когда прекращается этот свист, доктор уже далеко, и только видно, как он машет черной шляпой из окна вагона.
Ветер переменился, и вместо норда тихо тянет с востока. Иду к берегу. Перед складкой [17] Небольшая возвышенность почвы.
, которая образовалась вследствие отступления моря, видны жилища, одинокие, как заброшенный в степи хутор. Около них стоят трое горцев, провожая меня любопытным взглядом.

… стоят трое горцев, провожая меня любопытным взглядом…
На бугре складки растет редкая трава, пасутся овцы и козы, отдельно от них — лошади. Миную их и подхожу к промыслу. Вот помещение промысловых рабочих. На коньке новой, сверкающей оцинкованным железом крыши сидят кровельщики и по очереди стучат деревянными молотками.
Здание почти готово.
Заглядываю в дверь. Светлая, просторная комната уставлена в два ряда кроватями, вдоль стен тянутся полки, на которых лежат разные вещи и утварь.
В углу жестяной бак с кружкой на цепочке. Четверо горцев стоят в проходе между кроватями и о чем-то, видимо, смешном, говорят на непонятном мне языке. Стоящий ко мне лицом прищелкивает языком и пальцами, и после его слов все четверо хохочут.
Направо, в углу, еще группа. Они говорят громко, совершенно, видимо, не интересуясь присутствующими, и их речь непохожа на язык первых.
Древнее предание говорит, что Кавказ — «гора языков»: аварский, даргинский, лакский, табасаранский, кюринский и андийский, а затем идут наречия, которых чуть не столько же, сколько обществ. На промысле обычно 350–400 рабочих горцев; тут и аварцы, и даргинцы, лезгины, ногайцы, тюрки, кумыки, и кого только нет! И все разноплеменное население говорит, поет и кричит на разных языках.
Михал Михалыч называет — «Дербентское столпотворение» и сам громче всех кричит и командует чуть ли не на всех наречиях. По крайней мере не было еще случая, чтобы его горцы не поняли.
— Что же сегодня не тянете? — спрашиваю я, подходя к русскому рабочему, который, нагнувшись, чинит прорванную сеть.
— Не тянем. Сельди нет. Да еще случай у нас вышел — заведующий заболел.
— Что с ним?
— Должно, вчера простыл слишком. С утра, как первую тоню стали давать, он сам поехал метать невод. Отплыли далеко, а погода — дождь, да затем снег пошел, берега-то не видать. Надо быть, стали поворачивать, случись ветер, и понесло, конечно, в море. Сын его, — береговым он у нас, — видит по времени, срок неводнику на берегу быть, — ан нет.
— Ребята, — говорит, — плохо дело. Давай спускать на канате лодку в море, навстречу неводнику, а то потонут люди — унесет их в море.
Мы, конечно, живой рукой давай спускать на аркане лодку по ветру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: