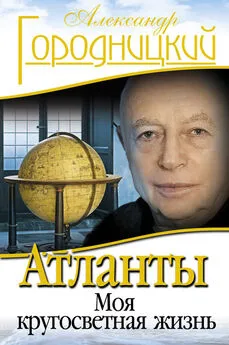Александр Городницкий - Атланты. Моя кругосветная жизнь
- Название:Атланты. Моя кругосветная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза, Эксмо
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-62562-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Городницкий - Атланты. Моя кругосветная жизнь краткое содержание
Атланты. Моя кругосветная жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что же касается упомянутой песни «про штабного писаришку», начинающейся строчками «Я был батальонный разведчик», которую мы, конечно, считали народной, то с ее автором, Алексеем Петровичем Охрименко, я познакомился только сорок лет спустя в 1992 году в Москве. Охрименко, автор «народной» песни про батальонного разведчика и не менее популярных песен, которые мы тоже распевали в студенческие годы, – «Венецианский мавр Отелло», «Ходит Гамлет с пистолетом» и «Великий российский писатель, граф Лев Николаич Толстой», родившийся в 1923 году, в 42-м девятнадцатилетним юнцом ушел на фронт, почти сразу же угодив в «Ржевскую мясорубку». Помните знаменитое стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом»? Но Алексею Охрименко везло. Он не погиб ни подо Ржевом, ни позднее под Витебском, хотя и перенес тяжелое ранение, а в 45-м закончил войну в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом. После войны он стал журналистом. Работал в радиокомитете, в журнале «Советский Союз», в «Медицинской газете» и, наконец, в газете «Воздушный транспорт», откуда ушел на пенсию.
Самые знаменитые свои песни – «Батальонного разведчика», «Отелло», «Гамлета» и «Толстого» – Охрименко написал в соавторстве с друзьями Сергеем Кристи и Владимиром Шрейбергом. Мне довелось несколько раз выступать вместе с ним в Москве, Киеве и других городах. Он, несмотря на свой почтенный возраст, довольно сильно «закладывал», что, однако, не мешало ему всегда успешно выступать со своей старенькой семистрункой в руках, поскольку для аудитории он всегда был ожившим мифом. Охрименко рассказывал мне, что свои песни он пел в 50-е годы по писательским квартирам в Москве и Переделкине и мечтать не мог об их публикации или записи.
После ухода в 1993 году последнего из авторов этих песен (Владимир Шрейберг умер в 79-м, а Сергей Кристи – в 86-м), они снова растворяются в фольклоре и становятся поистине народными.
Экспедиционные «геологические» песни я услышал несколько позднее. Первая моя производственная практика, открывшая начало экспедиционной жизни, состоялась в одной из поисковых партий так называемой «Восточной экспедиции». Так именовалась одна из экспедиций Первого Главного геолого-разведочного управления Министерства геологии, занимавшегося поисками урана. Работала она в Средней Азии совместно с Отделом специсследований Всесоюзного геологического института, располагавшегося в высоком старинном здании на Среднем проспекте Васильевского острова, неподалеку от Горного.
Еще с начала второго семестра на третьем курсе, за несколько месяцев до практики, в аудиториях обсуждались разные варианты экспедиций – от Магадана до Кавказа. Высокомерные старшекурсники, уже постоянно «приписанные» к полюбившимся им организациям, оценивающе, как на рынке работорговли, приглядывались к нашим однокурсницам, вербуя их в свои партии и не обращая никакого внимания на нашу бессильную ревность.
Более других в то время котировались две экспедиции. Первого Главка, – «Горная», работавшая в далекой и таинственной Туве, и «Восточная», работавшая в Средней Азии.
База партии, в которую мы попали на практику, располагалась в Душанбе (тогда – Сталинабаде), куда мы и отправились вчетвером с моими однокашниками, в длинную дорогу поездом с пересадкой в Москве. Помню, как расстроился мой отец, провожавший меня светлой июньской ночью на Московском вокзале, когда выяснилось, что все пассажиры общего вагона, абонированного для студентов Горного института, мертвецки пьяны, как сокрушался потом о выбранной мною профессии.
Поезд от Москвы до Сталинабада шел тогда около шести суток. Скромные наши студенческие финансы кончились примерно на третий день. Заядлый преферансист Саня Малявкин, взявший «общественную» пятерку и с надеждой на выигрыш отправленный в соседний вагон, тут же ее проиграл. Кто-то из сердобольных соседей посоветовал нам купить по пути в России мешок картошки, чтобы продать его в Средней Азии. Мы сдуру потратили последние рубли на эту картошку, но у нас уже и за Аралом никто ее почему-то не покупал. Сварить ее в условиях общего вагона не удалось, так что в Сталинабад мы прибыли голодные и одуревшие от жары. Что касается жары, то у меня на много лет осталось неизгладимое воспоминание от этого первого путешествия: в соседнем купейном вагоне на отрезке дороги между Термезом и Каршами сидели голые офицеры, вытирая пот грязными полотенцами и, морщась, пили теплую водку.
В Сталинабаде нас в первый же вечер смертельно напоили разведенным спиртом и местным вином «Тайфи». Потом накормили, снабдили горными ботинками «на шипах», наскоро обучили работе с радиометрами и развезли на грузовиках в горы, в поисковые отряды. Так началась экспедиционная жизнь. Состояла она из изнурительных каждодневных маршрутов по горам Гиссарского хребта, целью которых было геологическое картирование и поиски урана. Ходили в маршруты по двое – геолог и геофизик с радиометром для поисков радиоактивных аномалий. Нередко нашими геологами были женщины. Мне доводилось довольно часто ходить в многодневные маршруты с начальницей нашего отряда Люсей Григорьевой, крепко сбитой крутобедрой дамой лет тридцати с пятым размером повсеместно. Поскольку все приходилось таскать на себе, то лишнего груза не брали. Брали, в частности, один спальный мешок на двоих. Ночью на перевалах температура понижалась до нуля, и, чтобы не замерзнуть, спали в этом мешке, крепко обнявшись. При этом никаких сексуальных позывов не возникало – во-первых, смертельно уставали за день, во-вторых, мне было девятнадцать, и тридцатилетняя Люся казалась мне весьма пожилой.
Был недоступен видевшийся рядом
Окрестных гор багряный окоем.
С Григорьевой, начальницей отряда,
Полмесяца мы прожили вдвоем.
Уран мы там искали или медь,
Не помню. По ночам на перевале
В одном мешке мы с ней в обнимку спали,
Чтобы друг друга в холод отогреть.
Свет гаснул постепенно, как в кино.
Во тьме шакалы выли, то и дело,
И, не мигая, нам вослед глядело
Ночного неба звездное окно.
Мне было девятнадцать, тридцать ей,
И для меня она было старуха.
Ее дыхание щекотало ухо,
Могучий жар струился из грудей.
Мне было девятнадцать, тридцать ей, —
Я был как первоклассник целомудрен.
Нам на рассвете ветер лица пудрил,
Окутывая снегом до бровей.
У каменистых склонов на груди
Рисунок гор обозначался слабо.
Кончался май. Все было впереди, —
«И женщины, и подвиги, и слава».
Превышения в день достигали двух-трех километров, да и карабкаться приходилось часто по почти отвесным склонам, цепляясь пальцами за обманчивые выступы скал. Вот где я хлебнул первого страха! Если геолог мог хоть немного помогать себе геологическим молотком, цепляясь им за скалы или выбивая ступеньки в дресве, то уж геофизик (то есть я) со своим громоздким и неуклюжим прибором, болтавшимся на груди и больно бившим при каждом очередном падении, был совершенно беспомощен. До сих пор помню, как хорошо было лезть вверх по сланцевым скалам с их плитчатой отдельностью, как бы создающей природные ступеньки, и как тяжело – по гранитам, с их округлыми – не зацепиться – поверхностями, покрытыми мелкой острой дресвой, в кровь ранящей руки. А грозные гюрзы и другие ядовитые змеи, притаившиеся в расселинах скал! А десятки скорпионов и фаланг, вылезавшие по ночам к палаткам на свет! А обманчивые ледовые фирны в ущельях, где только оступись – и засквозишь неведомо куда!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: