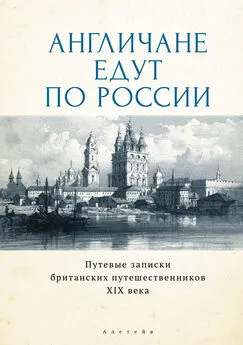И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Название:Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-295-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века краткое содержание
Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали.
Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал для изучения местных лесов и горных заводов, но он предпочел совершить туда так называемое «воображаемое путешествие» и написал об этом увлекательную книгу.
Инженер и металлург Джеймс Картмелл Ридли (1844–1914) вместе с участниками Международного геологического конгресса летом 1897 г. посетил Уфимскую и Пермскую губернии и потом опубликовал записки, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.
Книга предназначена для историков, этнографов, географов и краеведов.
Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Через шесть суток после отъезда из Астрахани мы достигли Новохопёрска, после чего местность менее дикой, чем ранее. Действительно, граница Воронежской и Тамбовской губерний показалась мне местом, откуда начинается цивилизация. Имея иное происхождение, другие нравы и обычаи, а также противоположные интересы, донские казаки со времен распада Татарской империи в XIII в. и до окончательного уничтожения их самобытности при царе Павле постоянно держали Россию в напряжении. Кажется, общество донских казаков напоминало демократию – они не признавали ни знатности, ни чинов, их атаман (начальник) по окончании своего пятилетнего срока пребывания в должности вновь становился простым человеком, а командующий войском в одном походе мог служить рядовым в другом. Но если должности у казаков были временными, то потерять честь можно было навсегда – например, поступить на службу к царям. Екатерина II уничтожила эти порядки. Правда, ее указ, вводивший регулярные звания и привилегии для тех, кто согласится служить в русской армии, привел к крупному восстанию, которое было быстро подавлено. Однако на протяжении прошлого столетия казаки сохраняли относительную свободу, что привлекало к ним всякого рода беглых. Поэтому император Павел нанес двойной и окончательный удар по казачьей демократии: во-первых, беглых сделали крепостными тех, кто их приютил [492], а во-вторых, всем состоявшим на царской службе пожаловали дворянство [493]. Чтобы не допустить протестов против новых порядков, власти отправили казаков-военнослужащих в таможни и карантинные станции на западе и на пограничные линии от Кавказа до киргизских степей и Сибири. Все казаки мужского пола должны прослужить двадцать лет за пределами своей родины или четверть века на родине, однако этот срок правительство часто продлевает. Эти и множество других сведений, оставшихся за рамками нашего рассказа, объясняют те характерные особенности, которые удивляют всякого попавшего к донским казакам.
Дорогу, проходящую по их землям и по территории Тамбовской губернии, с обеих сторон обозначают большие кучи камней высотой четыре-шесть футов, которые видны издалека – они размечают огромную волнообразную степь, на поверхности которой зачастую нет никаких иных следов человеческой деятельности. Время от времени мы въезжали в полосу кустарника, который никогда не расчищался, хотя императорскую дорогу сквозь него «проложили» лет тридцать назад. При спуске с холмов нас забавляла ловкость, с которой наш ямщик опрокидывал загораживавшие путь повозки. Ехали мы очень быстро и часто встречали телеги со спящими возницами, которые не успевали посторониться, когда их будили звон колокольчиков нашей упряжки и крики ямщика. В таких случаях он старался задеть оглоблей нашего тарантаса заднюю часть чужой телеги – если она была порожней, то через мгновение уже лежала на боку. Все это он делал столь ловко, что, распекая его, мы, несмотря на все усилия, не могли удержаться от смеха, тем самым существенно уменьшая действенность порицания. Следует сказать, что таким способом мы не перевернули ни одной груженой телеги, а что касается порожних, то поставить их вновь на колеса было сущим пустяком.
Утренний снежок сменился поземкой, и, хотя зима еще не наступила, было холодно. Вечерами дорога покрывалась снегом, становясь все хуже и хуже, а так как, как нам сказали, между Тамбовом и Рязанью она вообще станет жуткой, мы решили поторопиться. С конца осени и до установления снежного покрова путешествие превращается в настоящую пытку. Прекрасное шоссе существует только между Рязанью и Москвой и далее идет до Варшавы.
Несмотря на плохие дороги, лошадей нам давали хороших, а почтовые станции, в основном построенные недавно, были превосходны. Ясным морозным утром примерно в шесть часов 24 октября мы прибыли в Тамбов, чья почтовая станция, находившаяся на базарной площади, на удивление оказалась невообразимо грязной [494]. Выкрашенные в яркие цвета деревянные дома главной улицы города [495]имеют довольно необычную форму и напоминают чайные павильоны. Третья часть Тамбовской губернии покрыта черноземом, и в лучшие годы она производит зерна больше необходимого ей. Население Тамбова составляет с десяток тысяч человек [496].
Поскольку окрестности города накануне жатвы выглядят совершенно иначе, чем в дни нашего пребывания, то я процитирую письмо моего друга, посетившего эти места в лучшее время года: «Желательно, чтобы вы побывали в этих местах в тот же сезон, что и я, т. е. до сбора урожая, – это было бы весьма интересно вашим читателям. Проведя в пути ночь, вы сразу представите, какое впечатление произвело на мой северный разум открытие на рассвете занавесок кибитки – во все стороны до горизонта простирался огромный океан зрелой пшеницы, но особенно поражало полное отсутствие лесов. А когда солнце поднялось повыше и подул легкий ветерок, вы, будучи художником, можете вообразить себе великолепие красок, когда его лучи почти горизонтально падают на колышущуюся ниву. Я остановился у одного знакомого в нескольких верстах от Тамбова, а потом мы отправились на маленьких эриваньских лошадках [497]через огромные поля пшеницы. «И куда вам столько зерна?» – опросил я. «Ну, – ответил мой приятель, – часть съедят мыши и жуки, часть крестьяне оставят себе, причем в основном перегонят в водку, а остальное продадут на соседних рынках, если, конечно, смогут оплатить перевозку». Мужик лежал на спине, грея на солнце свое пузо, а рядом валялась его лопата. Мне захотелось узнать, на какую глубину залегает здешняя плодородная мелкозернистая почва и что находится под ней. Я начал было копать, но под тамбовским солнцем это занятие оказалось довольно изнурительным, к тому же стоявший рядом с фуражкой в руке мужик смотрел на меня как на сумасшедшего, которому потакает мой друг, а его хозяин. Поэтому я вручил ему лопату и гривенник (4 пенни), и он принялся за работу, но углубившись фута на четыре, остановился – для продолжения нужно было расширять яму. Почва представляла собой сплошной чернозем без камней, во всяком случае таких, которыми можно было отогнать бродячего пса. Я наивно спросил у своего друга о системе севооборота, чем очень удивил его. Он сказал, что один год выращивает пшеницу, на второй вспахивает землю плугом, практически не имеющим железных деталей, и вновь засевает ее пшеницей – так здесь делали всегда. «Но разве землю не оставляют под паром?» – удивился я. «Да-да, – было сказано мне, – иногда урожая бывает столь много, что его невозможно выгодно продать, поэтому на следующий год засевают поле поменьше, а остальное зарастает травой». Между Рязанью и Тамбовом я все же обнаружил песок, лежащий под слоем чернозема, но так и не понял, был ли это нижний слой почвы, или же, как в другом случае, – глинозем».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
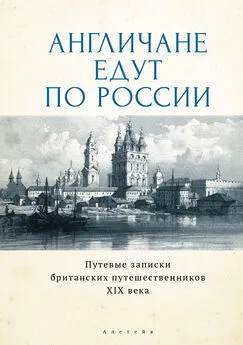

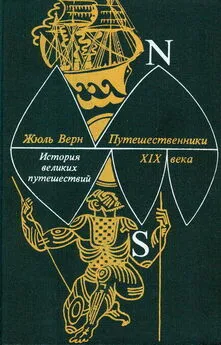

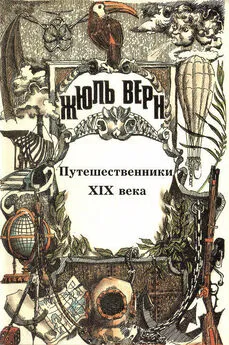


![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)