Владимир Обручев - В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)
- Название:В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Юнацтва
- Год:1994
- Город:Минск
- ISBN:985-05-0110-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Обручев - В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) краткое содержание
"В дебрях Центральной Азии" (записки кладоискателя) — третья книга В.А.Обручева (после "Плутонии" и "Земли Санникова") Золото старых рудников, сокровища древних городов и храмов — всё это не без приключений достается главным героям книги…
Текст печатается по изданию: Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) М.: Географгиз, 1951
В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот тракт идёт от Хами, постепенно приближаясь к подножию Тянь-Шаня, который на протяжении почти 300 вёрст между меридианами Хами и Чиктама значительно понижен и не несёт вечноснеговых вершин. Дорога неровная, пересекает многочисленные понижения, лога и овраги, идущие из Тянь-Шаня на юг; по ним расположены казённые станции, небольшие постоялые дворы, селения таранчей, отдельные фанзы, поля, рощи. В одном месте, за ключами Джигды возле тракта, находятся копи, в которых почти у самой поверхности земли добывают каменный уголь хорошего на вид качества, вывозимый в Хами и ло всему тракту в Сачжёу для отопления станций, где и мы три раза пользовались им.
За этой копью на пути к станции Лодун ветер, усилившийся до степени бури, заставил нас остановиться раньше времени, так как порывы ветра, направленные прямо навстречу, останавливали даже груженых верблюдов. На станции Лодун пришлось с большим трудом разбить палатку, которая выдержала уже не мало ветров во время наших путешествий. Но здесь к вечеру буря усилилась до того, что разорвала палатку по её швам и нам пришлось укрыться на постоялом дворе и платить за воду для чая и супа и за корм для животных.
На следующий день, несмотря на сильный встречный ветер, мы всё-таки пошли дальше, но дошли только до станции Чоглучай, где опять пришлось укрыться на постоялом дворе, так как в поле невозможно было развести огонь и вскипятить чай — ветер задувал пламя, а чайник раскачивало так, что вода выплёскивалась. Здесь нам рассказали, что лет 20 назад на эту станцию в начале бури прибыл обоз из 15 китайских телег, т. е. двухколёсных и очень высоких. Их предупредили, что надвигается очень сильная буря и лучше переждать её на станции. Но возчики очень торопились, заявили, что в телегах буря им не страшна, и уехали. На следующую станцию они не прибыли, очевидно буря подхватила высокие и не очень тяжёлые телеги и унесла их, людей и животных.
Станция расположена в устье ущелья, в самом начале небольшого кряжа голых скалистых гор, который тянется на юго-запад, отгораживая с юга обширную впадину, вытянутую вдоль главной цепи Тянь-Шаня. Вокруг станции нет никакого подножного корма, и нам пришлось купить для лошадей и верблюдов по довольно высокой цене соломы и несколько снопов сухой люцерны. За станцией дорога пошла по длинной впадине Дуниенчже вдоль Тянь-Шаня; она представляла обширный солончак с рощами тополей, тамариска, разных кустов и чия и отдельными холмами сыпучего песка. Но тополи в этой впадине вымирают, очевидно, от засоления почвы, так как стока воды из неё нет и почва всё больше насыщается солью; а разнолистый тополь (тограк) не выдерживает сильного засоления, хотя и растёт на солончаках. По сторонам дороги видны были мёртвые деревья, иные ещё с тонкими молодыми ветвями, а другие в виде пней разной высоты и толщины, с спирально закрученной древесиной и остатками толстых сучьев, очевидно засохших уже давно. Лобсын удивлялся тому, кто так небрежно рубил эти деревья: одни под самую крону, другие на половине высоты, оставляя так много дров на корню в этой безлесной стране, и мне пришлось объяснить ему, что такое засоление почвы в впадине, лишённой стока вод. Но всё-таки было странно, почему эти сухие стволы так близко от станции Чоглучай, конечно нуждавшейся в дровах, не срублены. Очевидно, они так были пропитаны солью, постепенно губившей их, что очень плохо горели.
В этой впадине на дороге имеются три станции, и мы шли по ней три дня, так как вне станций нет ни колодцев, ни ключей. Пришлось опять покупать воду и корм для животных, а также хлеб и похлёбку для себя. Третья станция представляла просто маленький пикет, в котором жили два солдата, и мы могли бы миновать её и остановиться на следующей, если бы не буря, которая разразилась, когда мы приближались к пикету. Ветер был такой силы, что трудно было держаться в седле, а завьюченные верблюды при порывах бури останавливались под напором ветра. Я пробовал бросать вверх плоские плитки камня, и буря сносила их в сторону, не давая падать им вертикально вниз. У пикета пришлось остановиться и под защитой горы раскинуть палатку в самом ущелье. Здесь наши животные поголодали, так как на пикете не было корма на продажу. В ущелье было сравнительно тихо, но над палаткой слышен был гул и рёв ветра и по временам налетали шквалы с той или другой стороны и на палатку сыпался песок и мелкие камни.
На дне этой впадины я заметил кое-где голые грядки, высотой до полуаршина, состоявшие из мелких камешков, величиной в кедровый и лесной орех. Они, очевидно, были наметены ветрами, уносившими пыль и песок куда-то дальше. Во время бури перед третьей станцией воздух во впадине посерел от пыли, которая поднималась столбами с солончака и песчаных холмов. Этот бурный день дал нам понятие о том, что происходит во время самых сильных бурь в Долине бесов.
За пикетом, у которого мы остановились из-за бури, тракт перевалил в другую впадину меньших размеров, но также с солончаком в средней части. А по окраинам её на склонах гор голые скалы обратили на себя моё внимание тем, что все они были совершенно чёрные и блестящие, словно их вымазали дёгтем или каким-то лаком. Это меня заинтересовало, я подъехал к одной из скал и потрогал рукой её блестящий бок — он оказался совершенно сухим. Чтобы узнать, чем он вымазан, я достал из чересседёльной сумы, в которой возил то, что нужно было иметь под рукой на всякий случай, молоток и попробовал отбить углы нескольких чёрных скал. Оказалось, что чёрными они были только сверху, а внутри некоторые были темно-зеленые, серые, буро-красные и, действительно, казалось, что их кто-то вымазал чёрным лаком или краской. [12] Фома не знал, что покрывает эти чёрные скалы. Это так называемый «лак пустыни», состоящий из железа и марганца и покрывающий очень тонким, в доли миллиметра, но прочным слоем, который нельзя отбить от камня, поверхность многих горных пород в пустынях. Но он не везде одинаковый, на мелкозернистых темно-зеленых, серых, бурых породах он чёрный, сильно блестящий, на розовом граните он представляет только бурую плёночку, слабо блестящую, а на белом кварце — жёлто-бурую плёнку, также блестящую. Образование лака ещё не разъяснено точно: полагают, что влага в виде росы, дождя, снега, проникая в глубь камня, извлекает из него растворимые соли железа и марганца и отлагает их на его поверхности, образуя эту тонкую корочку, а пыль, содержащаяся в воздухе пустынь, полирует её. Чёрный лак образуется только на породах, содержащих в себе железо и марганец; на известняках получается только бурая почти не блестящая корочка, но если в известняке имеются прожилки кварца — на них можно видеть буро-чёрную блестящую корочку, и эти прожилки тогда резко выделяются на светло-буром фоне. — Прим. автора.
Интервал:
Закладка:
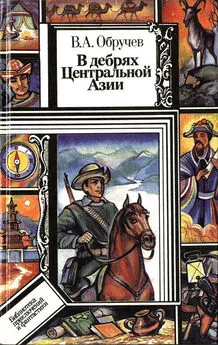

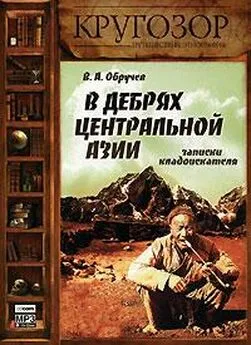



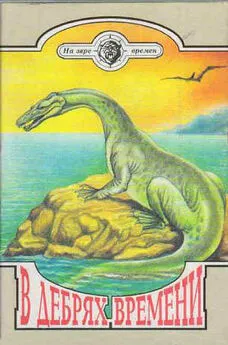
![Эрика Фатланд - Советистан [Одиссея по Центральной Азии: Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан глазами норвежского антрополога] [litres]](/books/1079277/erika-fatland-sovetistan-odisseya-po-centralnoj-a.webp)


