Владимир Обручев - В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)
- Название:В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Юнацтва
- Год:1994
- Город:Минск
- ISBN:985-05-0110-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Обручев - В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) краткое содержание
"В дебрях Центральной Азии" (записки кладоискателя) — третья книга В.А.Обручева (после "Плутонии" и "Земли Санникова") Золото старых рудников, сокровища древних городов и храмов — всё это не без приключений достается главным героям книги…
Текст печатается по изданию: Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) М.: Географгиз, 1951
В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но рядом с этими чёрными скалами видны были маленькие холмики из грязно-желтого песка, не покрытые этим лаком, и контраст этих холмов и скал рядом был поразительный. [13] Фома правильно отметил и это. В этой впадине на южной окраине Тянь-Шаня, действительно, у подножия чёрных скал в холмиках выступают рыхлые глины и песчаники, которые, конечно, не покрываются лаком, развитым только на твёрдых породах, тогда как рыхлые породы ветры развевают.
Из этой впадины мы выехали по длинному и сухому ущелью через передовую цепь Тянь-Шаня на его южное подножие, по которому медленно спускались до вечера. Это была полная пустыня, усыпанная галькой и щебнем, также сплошь чёрного цвета и блестящим. Только местами, где в поверхность врезались плоские ложбины и сухие русла, кое-где видны были жалкие и редкие кустики. Мы ехали и ехали, не видя впереди и позади ничего, кроме чёрных камней, усеивавших серую почву. Подобные площади вспомнились в Чёрной Гоби на пути из Баркуля на Эдзин-Гол в Хара-Хото, где мы встретились с Чёрным ламой. Выбрал ведь он для своего убежища эту чёрную пустыню! Только под вечер сухие русла и ложбины стали попадаться чаще, и мы, наконец, остановились ночевать среди каких-то развалин, где обнаружили глубокий колодец. Пришлось сиять с вьюка верёвку, чтобы достать воды. Но животным пришлось опять поголодать. Мы могли дать им только остатки сухарей, крошки хлеба, а верблюдам — последнюю муку.
На следующий день эта пустыня скоро кончилась довольно высоким откосом, местами с обрывами, здесь из галечника выбивались ключи, а немного далее было большое таранчинское селение Чиктам, где мы очень рано остановились, чтобы дать отдых животным и подкормить их после нескольких тяжёлых и постных дней. Корм, конечно, пришлось купить. Но можно было удивляться тому, что здесь пролегал большой тракт из Хами в Турфан, Урумчи, Кульджу. Сопоставляя природу этого участка тракта с остальной его частью и с тем, что я видел в Долине бесов, а Лобсын на своём маршруте, можно было понять, почему по Долине бесов всё-таки некогда проложили большую дорогу из Хами в Лукчун и пытались ездить по ней, хотя бы в спокойные месяцы. Дорога эта всё-таки была прямее, короче и ровнее, чем современный тракт, по которому мы теперь шли.
После Чиктама местность потеряла свой безотрадный характер; её оживила вода, выбивавшаяся многими ключами из галечников подножия Тянь-Шаня. Здесь были рощи, поля, отдельные фанзы, посёлки таранчей, заросли тростника, кустов. Мы шли целый день по населённой местности с разбросанными среди неё холмами отрогов последней цепи Тянь-Шаня. При виде этой жизни рядом с голой пустыней, по которой мы шли накануне, я удивился полному отсутствию предприимчивости у таранчей. Галечники пустыни содержали в глубине много воды, о чём свидетельствовали вытекавшие из-под них обильные ключи. Но воду ведь можно было бы получить при помощи бурения в самой верхней части этой пустыни и превратить последнюю в оазис. Попытку найти и использовать подземную воду представляли и кярызы, которые мы видели в Лукчунской впадине и о которых я упомянул в описании её; но это были жалкие попытки с несовершенными средствами.
На следующий день мы вышли в оазис города Пичан и остановились на южной окраине. Город и его сады и рощи лежали справа, а мы выбрали пустырь, где наши животные могли пастись в зарослях чия и кустов. На юг от нашей стоянки, вдали, видны были высокие жёлтые холмы с довольно пологими склонами. От проезжавшего таранчи я узнал, что это Кумтаг, т. е. песчаные горы. Это были те же большие пески, мимо которых я проехал с юга из селения Дыгай перед вступлением в Долину бесов. Таким образом, я увидел их теперь с другой стороны, с севера, и отсюда они казались выше, чем с юга. Вдоль их северной окраины тянулась цепь песчаных барханов обычной высоты в 3–5 сажён, но с нашей стоянки эти барханы казались просто холмиками по сравнению с высокими Кумтаг, которые были раз в десять выше, т. е. достигали 30–50 сажён над равниной Пичана, представляя настоящие песчаные горы.
Мне захотелось рассмотреть их ближе, и я под вечер съездил к ним верхом. Это, действительно, были целые горы голого песка, поднимавшиеся полого над равниной, поросшей довольно хорошей травой и полынью. Кое-где на них видны были пучки песчаной травы и кустики саксаула, но они мало смягчали вид этой песчаной пустыни. Меня занимал вопрос, откуда же нанесло сюда эту массу песка, и, сопоставляя с направлением ветров Долины бесов, я подумал, что песок приносило с запада из Лукчунской большой впадины, дно которой представляло пустыню, за исключением полосы вдоль речек, вытекавших из гряды гор, окаймлявших впадину с севера. Да и эти совершенно голые гряды, состоящие из песчаных пород, должны были давать ветрам много материала для уноса на восток.
Из Пичана мы пошли дальше на юго-запад. За рощами и садами города дорога вступила в долину, вернее, в широкий проход между песчаными горами Кумтаг и холмами из красных, жёлтых и зелёных песчаных пород, составлявших конец гряды Ямшинтаг, окаймляющей с севера впадину Лукчуна. Этот проход понижался понемногу, как бы углубляясь, словно сток вод, в Лукчунскую впадину, и, наконец, открылся в неё, расширяясь. Окраина Кумтага отодвинулась влево, а холмы Ямшинтага повысились и превратились в ту голую скалистую гряду, которая была нам знакома по раскопкам в Лукчуне, ограничивавшая с севера рощи, сады и улицы таранчинского города, орошаемые водой речки, вытекавшей из прорыва в этой гряде.
Уже в сумерки мы прошли через этот оазис и остановились у того старшины, у которого нанимали квартиру для немцев во время раскопок. Старшина встретил нас хорошо, и мы целый вечер рассказывали ему о своих приключениях за истекшие годы, а он сообщил, что после нашего отъезда у него были неприятности с немцами из-за незнания ими языка.
Прибытием в Лукчун закончилась интересная часть нашего путешествия, так как дальше шли знакомые уже места. Через Турфан, Урумчи и Шихо, а затем через Джунгарскую впадину и горы Майли и Джаир мы вернулись без неприятностей в Чугучак уже в декабре, испытав довольно сильные морозы. Мы убедились, что климат в Дуньхуане гораздо теплее, чем в нашей местности.
В Чугучаке консул с большим интересом выслушал моё описание Долины бесов, Хамийской пустыни и пещер Тысячи будд. Он помог составить мне список привезённых оттуда рукописей, заглавия которых пришлось аккуратно копировать, чтобы специалисты-языковеды могли определить их содержание и выяснить, стоит ли их высылать в Академию наук, заслуживают ли они оценки, которую пришлось им дать на основании стоимости путешествия и товаров, которые я отдал за них старшему ламе. Этот список я составлял при помощи Очира целый месяц. Несколько первых выписок на разных языках консул отправил в Петербург и получил оттуда известие, что рукописи тщательно изучаются на предмет определения их научной ценности. Консул отправлял их понемногу небольшими казёнными посылками во избежание потери на простой почте. [14] Пешерные храмы Тысячи будд вблизи г. Дуньхуан (Сачжёу), основанные при династии Хань около 2000 лет назад, были посещены итальянским посланником и купцом Марко Поло в 1273 г., давшим в отчёте о своём многолетнем путешествии из Венеции в Китай первое описание их. Венгерская экспедиция графа Бела Сечени осматривала эти храмы и пещеры в 1879 г., и участник её, лейтенант Г.Крейтнер, дал очень беглое описание их в своём популярном труде 1881 г. Несколько больше сведений о них находим в описании третьего путешествия Н.М.Пржевальского (на стр. 100–102), который называет это место Чен-фу-дун и говорит, что пещеры выкопаны в громадных обрывах наносной почвы западного берега ущелья и расположены в два яруса, а в южном конце даже в три и сильно пострадали во время дунганского восстания. Он указывает размеры некоторых пещер и вышину самых больших статуй Да-фу-ян, и Джо-фу-ян, высеченных в горной породе (не твёрдой). Самая большая статуя по рисунку Роборовского изображена на таблице и имеет около 12–13 сажён вышины. Роборовский в отчёте об экспедиции 1893–1895 гг. упоминает также о них кратко. Наиболее подробные сведения об этих пещерах с многочисленными фотографиями можно найти в сочинении английского исследователя А. Стейна «Ruins of desert Kathai», т. II, который изучал их подробно и вывёз обширные коллекции рукописных книг на разных языках, картин, фресок и других предметов. — Прим. автора.
Интервал:
Закладка:
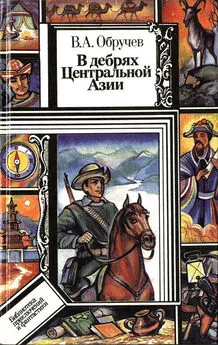

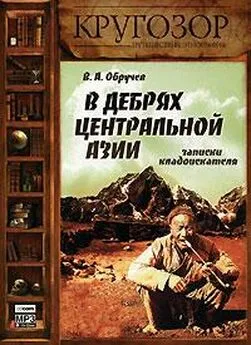



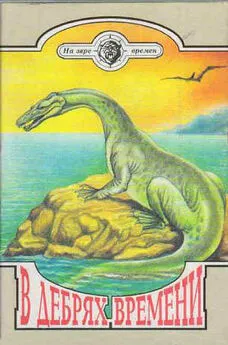
![Эрика Фатланд - Советистан [Одиссея по Центральной Азии: Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан глазами норвежского антрополога] [litres]](/books/1079277/erika-fatland-sovetistan-odisseya-po-centralnoj-a.webp)


