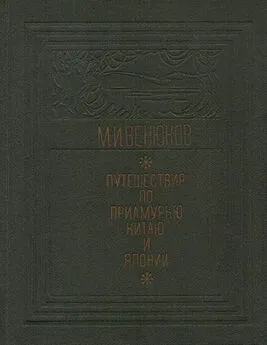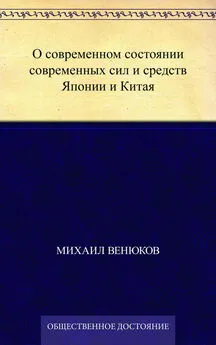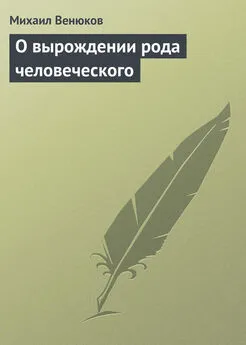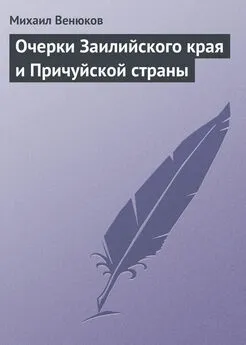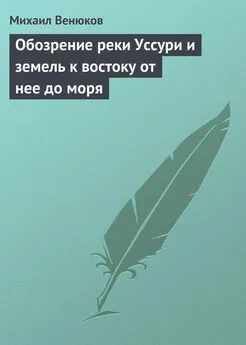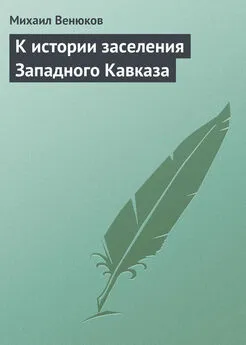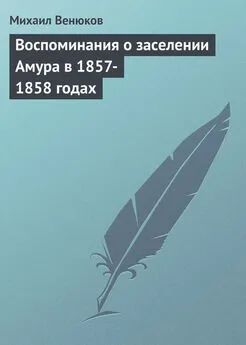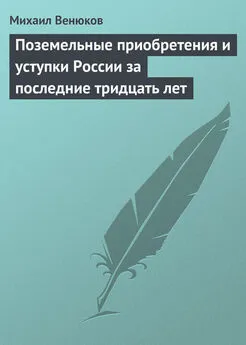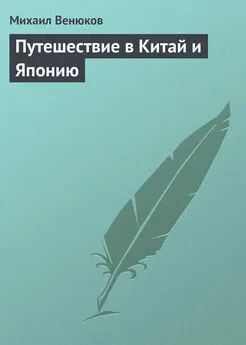Михаил Венюков - Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии
- Название:Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Хабаровское книжное издательство
- Год:1970
- Город:Хабаровск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Венюков - Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии краткое содержание
В новое издание книги известного русского географа, путешественника и ученого Михаила Ивановича Венюкова вошли «Воспоминания о заселении Амура в 1857— 1858 годах», очерки «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» и «Путешествие в Китай и Японию».
В своей книге, написанной с позиций передового ученого, пламенного патриота Отечества, М. И. Венюков утверждает приоритет русской науки в открытии и исследовании Приамурья и Приморья, разоблачает агрессивную, экспансионистскую политику английских, французских, американских колонизаторов в странах Дальнего Востока, показывает прогрессивное значение утверждения России на берегах Тихого океана.
Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
14 октября мы прошли мимо Усть-Стрелки: прощай, Амур!
26 октября был в Иркутске и, заплатив 25 рублей писарю за перебелку отчета (дарового штабного писца Будогосский мне не дал), сдал его.
Генерал-губернатор был, по-видимому, доволен этой толстой тетрадью и съемкою Уссури [23] Будогосский пытался, однако, подорвать доверие к моему описанию Уссури, поручив одному из своих прихвостней, в 1860 году, напечатать неблагоприятный для меня отзыв в одной жалкой газетке; но астроном Шварц в своем ученом отчете об экспедиции Русского географического общества, которою он управлял, восстановил истину. Потом мой отчет находил постоянно подтверждение в трудах других путешественников по Уссури.
и на следующий год предназначил меня опять в экспедицию на Амур и Уссури, где должна была устанавливаться государственная граница с Китаем. Мало того, на домашнем празднике Генерального штаба, 8 ноября, Н. Н. Муравьев был особенно любезен со мною, а 25 ноября, при объявлении полученных из Петербурга наград за присоединение Амура, публично извинялся, что мне дали Анну, а не Владимира, к которому он меня представлял. Я, однако же, остался верен своему решению и воспользовался данным случаем, что бы привести его в исполнение.
Рано утром 26 ноября я пошел к генерал-губернатору в мундире и, в присутствии несколько удивленного инженер-капитана Рейна, сказал ему, что дальнейших интриг против себя, видимо, увенчивающихся успехом и сопровождающихся притеснениями, я терпеть не намерен…
Затем, 6 декабря, на балу в своем доме Николай Николаевич отыскал меня в толпе и, взяв за руку, намеренно ходил по залам, беседуя со мною самым любезным тоном. Тут же он сам представил меня ехавшему в Петербург адмиралу Кузнецову, как «автора поучительного отчета об Уссури».
Решение мое осталось неизменным. И когда, наконец, 3 января 1859 года установился хороший зимний путь, я, сев в повозку, без большого сожаления сказал: прощай, Восточная Сибирь!
А 23 февраля 1859 года генерал-квартирмейстер барон Ливен, ознакомившись с моими работами, объявил мне, что я по высочайшему повелению назначаюсь начальником экспедиции на реку Чу {1.63} 1.63 Чу — река в Средней Азии, берет начало в горах Тянь-Шаня в Киргизской ССР. В 1859 году М. И. Венюков производил съемку реки и ее верховья.
, к пределам Коканда.
VI
Двадцать шесть дней, которые я провел в дороге от Иркутска до Петербурга, волею-неволею были наполнены то мечтами о вероятном будущем, то обратными взглядами на только что миновавшее прошлое. По мере удаления от берегов Ангары очерки этого недавнего прошлого становились все более и более определительными, совершенно так, как бывает с очерками отдельных фигур и групп в большой картине, ну хоть в Микеланджеловском «Страшном суде», который вблизи не представляет ничего, кроме труднообозреваемой, хаотической кучи мясистых человеческих тел, а издали является систематически обдуманною картиной, с известным ансамблем. И это сравнение, несмотря на его искусственность, было бы довольно верно, если бы иркутские и вообще восточносибирские «тела» напоминали классические фигуры сикстинского полотна. К сожалению, оно далеко не так, хотя многие из этих довольно невзрачных «тел» стояли у великого дела и влияли на его ход. Единственный же ансамбль, который они способны составить, сам собою понятен для каждого знакомого с русскою жизнью: в центре картины милующий или карающий генерал-губернатор; близ него, на первом плане, справа и слева, люди чиновные, искренне или лицемерно ему поклоняющиеся, и затем внизу и на заднем плане — несколько чуть видных фигур людей независимых или даже представляющих оппозицию и назначенных в преисподнюю; наконец, по сторонам — инертные массы, с которыми сам всеведущий судья не знает, что делать, по их стадоподобной готовности идти туда, куда погонит пастух [24] Для довершения сходства иркутской и римской картин можно бы еще сказать, что около Муравьева стояла женщина, — хоть и не мать его, а жена — и тоже, как в Буанарротиевской композиции Богородица, являлась ходатайницей за караемых. Известно, например, что она в 1855 году спасла жизнь адъютанту своего мужа Сеславину, которого тот хотел расстрелять за неисполнение какого-то приказания в виду неприятеля, в заливе Де-Кастри.
.
Начну ab ovo {1.64} 1.64 Ab ovo (латинск.) — «с яйца», с самого начала.
, как говорят классики, желая показать себя людьми образованными, но не всегда зная, что именно значит ab ovo и откуда взялось оно. Так как передовым, базовым концом восточносибирского общества или главными двигателями событий, конечно, считались — если не всегда были — те, которые стояли выше по спискам чиновничьей иерархии, то им первое место и здесь. Вот почтенный председатель Совета Главного управления Восточной Сибири и вместе иркутский губернатор, часто заступавший Муравьева в управлении всем краем, — генерал-лейтенант Венцель. При воспоминании о нем у меня невольно родится улыбка. Добрейший Карл Карлович, — которого Муравьев, не знаю почему, называл шутя Charles le Tèmèraire {1.65} 1.65 Charles le Tèmèraire (французск.) — Карл Смелый.
, — был совершеннейший нуль, несмотря на то, что фигура его напоминала худощавую единицу. Вся цель его жизни, — если только она имелась,— состояла в том, чтобы не сделать никому зла, но и это ему не удавалось. Раз, в припадке напускной генеральской свирепости (position oblige) {1.66} 1.66 Positior oblige (французск.) — «положение обязывает».
, он так накричал на члена сибирской ученой экспедиции астронома Зондгагена, что тот умер от внезапного прилива крови к сердцу и голове. Простодушный, искренний испуг Венцеля при этом был так велик, что его жалели едва ли не столько же, как и убитого им астронома. По какому-то инстинкту он догадывался, что народу тем хуже, чем больше бумаг выходит из губернаторских и всяких других канцелярий, а потому вечно ратовал против большого числа и особенно многоречия разных «входящих и исходящих номеров». Это была бы очень хорошая точка зрения, если бы он умел сознательно держаться на ней; но, к сожалению, этого не было, и в результате получилась одна административная бестолочь. Чиновники иногда бывали в отчаянии от него.
— Что вам угодно? — спрашивает Венцель одного столоначальника, почтительно стоявшего у притолоки с толстым портфелем в руках.
— Да вот, ваше превосходительство, бумаги нужно бы вам подписать по контрольной части.
— А, контроль? Терпеть не могу контроля. И что это вы не вовремя изволили пожаловать? Теперь пора обедать, а не возиться с этой дрянью…
Чиновник, который был любимцем Венцеля и его жены и который почти ежедневно обедал у их превосходительств, сконфуженно направляется за дверь, а Венцель продолжает вслед ему посылать сердитые замечания, а потом опять удивляется за обедом, что такой-то отсутствует. Жена справляется, узнает, в чем дело, и на другой день извиняется за мужа перед обруганным… Вероятно, за такую разумную и плодотворную деятельность, точнее за полное бездействие и, стало быть, отсутствие оппозиции, Муравьев не только держал Венцеля на его немаловажном посту, но и украсил его Белым Орлом по поводу заключения в 1858 году Айгунского договора, хотя Венцель, кажется, даже не бывал на Амуре, а присоединению его если чем содействовал, то разве тем, что разорил в том же 1858 году три волости на Ингоде и Ононе, заставляя крестьян доставлять в казну хлеб для амурского сплава по 60 копеек за пуд и в количестве, какое едва ли было в запасе у них самих.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: