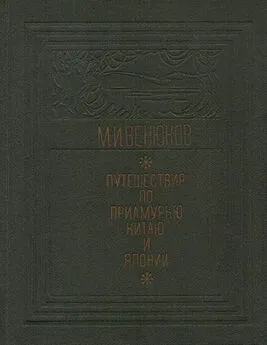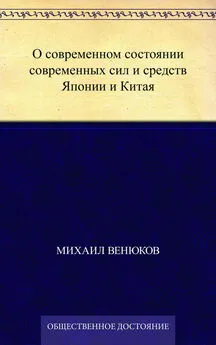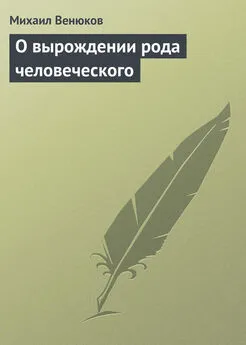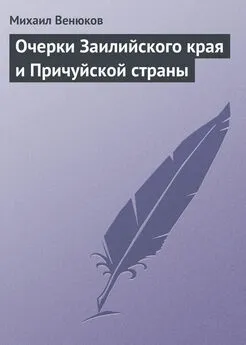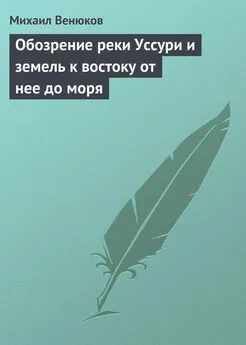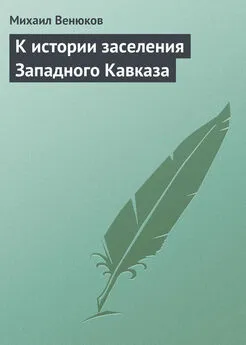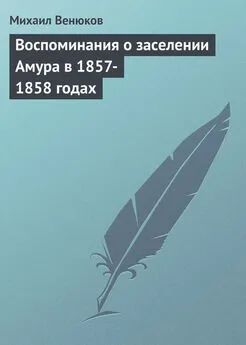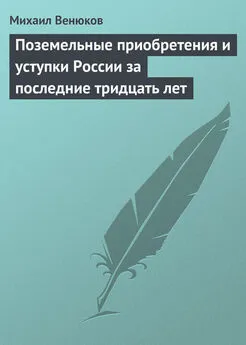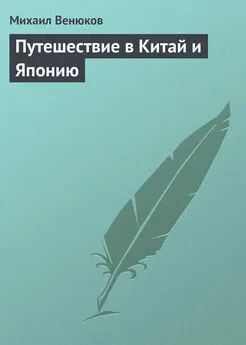Михаил Венюков - Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии
- Название:Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Хабаровское книжное издательство
- Год:1970
- Город:Хабаровск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Венюков - Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии краткое содержание
В новое издание книги известного русского географа, путешественника и ученого Михаила Ивановича Венюкова вошли «Воспоминания о заселении Амура в 1857— 1858 годах», очерки «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» и «Путешествие в Китай и Японию».
В своей книге, написанной с позиций передового ученого, пламенного патриота Отечества, М. И. Венюков утверждает приоритет русской науки в открытии и исследовании Приамурья и Приморья, разоблачает агрессивную, экспансионистскую политику английских, французских, американских колонизаторов в странах Дальнего Востока, показывает прогрессивное значение утверждения России на берегах Тихого океана.
Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Спускаться далее в мир иркутской бюрократии, современной моему пребыванию в Восточной Сибири, я решительно не в состоянии; да и не стоит. Это была обычная губернская бюрократия николаевского заготовления. Был, например, полицмейстер, разъезжавший по городу в санках с пристяжной на отлете, у него была смазливая жена к услугам… впрочем, на этот раз не начальства, как бывало потом, при Корсакове и Фридрихсе, а одного из молодых носителей аксельбантов. Был жандармский офицер Фохт, дубина вершков десяти росту, с широкими пастью и дланью; как человек, который обязан наблюдать за благим поведением других и для которого нет ни за что ответственности, он ругался площадными словами в иркутском «благородном» собрании… правда, на маскарадах, куда имели доступ горничные местных генеральш. Был инженерный капитан-щеголь Рейн, столь исполненный вечно проповеданных им правил благопристойности, что в том же собрании даже дрался с прислугою. Был советник в Главном управлении, хваставшийся честною бедностью, про которого, однако, общий голос настойчиво уверял, что он взял взятку в 5 000 рублей. Опасаясь последствий такой молвы, честный советник ходил в мундире к Венцелю (за отсутствием Муравьева) с просьбою выслать из Иркутска Петрашевского, который будто бы распространяет слух, прибавляя, что «если так поступить с одним горлодером, то другие замолкнут». Когда же Венцель объявил, что сделать этого не может, а что против Петрашевского, хоть и ссыльного, нужно действовать судом, то обиженный сановник объявил, к немалому удовольствию публики: «Стану я ходить по судам срамиться!» — после чего никто уже не сомневался, что взятка была получена…
Впрочем, да мимо идет чаша, наполненная соком иркутской общественной жизни: ее ведь можно пить в каждом русском губернском городе. Любопытнее вспомнить о том, чем Иркутск в мое время отличался от огромного большинства провинциальных центров, то есть о широком умственном движении и его представителях. Делая сравнение несколько гиперболическое, я могу сказать, что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем же, чем век Екатерины II для всей России и век Людвика XIV для Франции. Не было только поэтов, сочинителей од, хотя, например, 16 мая 1858 года — день заключения Айгунского договора, в память которого в Иркутске были сооружены триумфальные ворота, мог бы дать повод какому-нибудь жрецу Аполлона и муз написать не один десяток строф рифмованной лести. Умственное движение в Иркутске 1850—1860 годов в самом деле было значительно, и Муравьеву в нем принадлежит роль если не возбудителя, то покровителя… в смысле Тамерлана, говорят иные, скорее в смысле Екатерины, скажу я. Генерал-губернатор, начавший свое управление льготами декабристам и даже визитами к ним, оставался и через десять лет «человеком» по отношению к петрашевцам, то есть к людям, заплатившим каторгою за то, что служили честным идеям. В бытность мою в Иркутске все наличные петрашевцы (декабристов уже не было: они в 1856 году получили всепрощение по ходатайству Муравьева же) — Петрашевский, Спешнев, Львов — были ласкаемы генерал-губернатором, а за ним и прочею местною знатью. Первый был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Муравьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены. Он пользовался этим положением, чтобы говорить своему покровителю вещи, которых не смели сказать другие: например, укорял его за стремление удешевить полицейскими мерами хлеб на иркутском базаре, за ложную экономическую политику в Забайкалье, при снаряжении амурских сплавов и т. п. И Муравьев слушал, оспаривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не думал за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск, как сделал потом Корсаков Львову и Спешневу, людям сравнительно молодым, надеявшимся на реставрацию, он отворил дверь в храмину бюрократии, после чего, мало-помалу, первый из них достиг возвращения чина отставного гвардии штабс-капитана, а последний проник и в высшие, то есть самые бездушные, сферы канцелярии в Петербурге. Спешнев был сделан Муравьевым даже редактором основанной в 1858 году газеты «Амур», хотя это была газета казенная и, следовательно, не должна была издаваться при содействии бывших каторжников. И Бакунин {1.74} 1.74 Бакунин М. А. (1814—1876) — идеолог анархизма, в 1857 году был выслан на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1861 году. Племянник генерал-губернатора Муравьева-Амурского.
, которого император Александр II обещал во все время своего царствования не возвращать из Сибири, нашел себе покровителя в Муравьеве, который доставил ему нечто вроде нештатного, но постоянного и прибыльного места адвоката золотопромышленников при Главном управлении Восточной Сибири, где решались дела об отводе приисков. (Впрочем, это, как говорили, сделано было по родству; и я, никогда не знавший Бакунина лично, не ручаюсь, верно ли переданное здесь мною известие.)
Упомянув о Петрашевском, не могу не вспомнить моих личных к нему отношений, остававшихся наилучшими до самого моего отъезда из Сибири, хотя Михаила Васильевича за его резкую правдивость и иногда злые насмешки многие не жаловали и даже боялись. Когда в ноябре 1857 года я уезжал в Петербург курьером, он передал мне письмо к матери, которое боялся доверить почте, и просил о сообщении ей некоторых подробностей на словах. Я свято исполнил поручение; старушка, богатая домовладелица, помнится, на Торговой улице, при мне спрятала полученное письмо под косынку на груди, расспросила меня о житье-бытье сына, но ответа последнему ни тут, ни после мне не дала. По возвращении моем в Иркутск Петрашевский с грустью узнал об этом; но что было коренною причиною этой грусти, — осталось мне неизвестным. Мои личные отношения к Михаилу Васильевичу оставались прежними, то есть мы часто беседовали о предметах научного и общественного интереса то у меня, то у него, то в Сибирском отделе Географического общества, всего же чаще у Ротчевой. Эта почтенная дама была тоже одною из замечательностей Иркутска. Урожденная княжна Гагарина, она получила прекрасное образование, живала в большом парижском свете, но вышла замуж (вероятно, по любви) за небогатого человека Ротчева. С ним она жила в Русской Америке, именно в колонии Росс на берегу Калифорнии, около самой той местности, где года через два после продажи колонии американцам открыты были богатые золотые прииски; потом поселилась в сибирской глуши и управляла каким-то женским воспитательным заведением, тогда как муж, довольно известный публицист, оставался в Петербурге и служил, кажется, в канцелярии Военного министерства и в управлении Российско-Американской компании. Ротчева имела сына и двух дочерей, из которых одна, редкая красавица, вышла замуж за полковника Заборинского, предместника Буссе, другая оставалась при матери, а сын состоял адъютантом или ординарцем при Корсакове. Сколько раз я просиживал далеко за полночь у почтенной старушки, легко поддерживавшей всякий разговор, знакомой со всеми отраслями человеческих знаний, умевшей сознательно не преклоняться ни перед Гумбольдтом, ни перед Герценом, ни даже перед своим любимцем Вольтером и метко указывавшей достоинства их и недостатки. С ней в последний раз в жизни я вел спор о предмете высшей метафизики, творце и правителе мира, и она сдавалась нелегко, уступая лишь шаг за шагом, по мере того как я развивал ей, как умел, антиномии, неизбежные в вопросах естествознания и морали при допущении гипотезы всемогущего, всеведущего, вездесущего, правосудного и всеблагого бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: