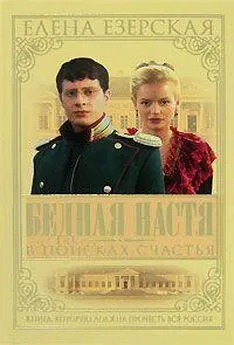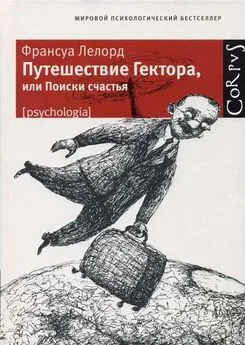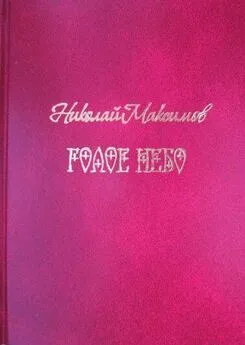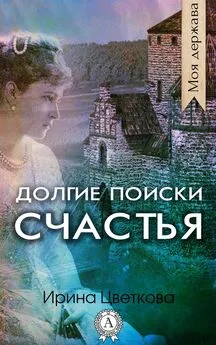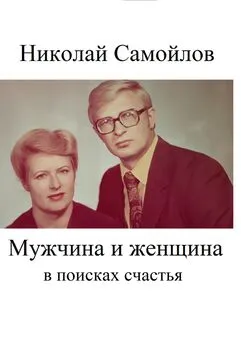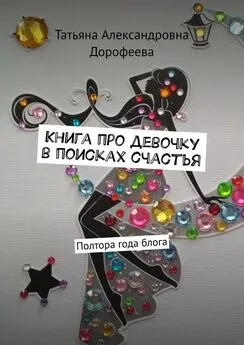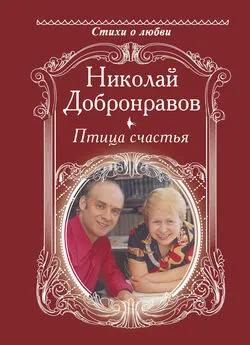Николай Максимов - Поиски счастья
- Название:Поиски счастья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дальневосточное книжное издательство
- Год:1965
- Город:Владивосток
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Максимов - Поиски счастья краткое содержание
Роман о судьбе русских поселенцев Аляски и коренных жителей Чукотки. Действие происходит в начале XX века. Герои романа каждый по-своему понимают, что такое счастье. Для потомка русских поселенцев Андрея Устюгова, понимающего, что скоро на Аляске не станет русского уклада жизни, — это возвращение на родину своих предков, в Россию. Для молодого чукчи Тымкара — это винчестер и шкуры, другие подарки для задабривания своего будущего тестя, отца любимой девушки. Для революционера Кочнева — это всеобщее счастье. Он не может быть счастлив, если несчастны окружающие его люди.
Роман был закончен в 1952 году и выдвигался на Сталинскую премию. Но Сталин умер, и премия не состоялась.
Поиски счастья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В одном из кочевий миссию задержала пурга. В шатре у хозяина стойбища отец Амвросий вкратце излагал учение христово. Два его переводчика, обливаясь потом от жары и натуги, переводили: один с русского на якутский, а другой, который не знал русского, — с якутского на чукотский.
Полураздетые слушатели вертели головами, почесывались, курили. Иногда раздавались возгласы удивления.
Запах жира и шкур неприятно раздражал ноздри миссионера.
Когда речь зашла о непротивлении злу, какая-то старуха отползла в сторону и пополнила ачульхин — общее мочехранилище. Амвросий поморщился. Теперь он говорил о молитвах, постах. «Однако, — подумал он, — старая ведьма подала дурной пример». Ибо вслед за ней к ачульхину потянулся хозяин стойбища, а потом и остальные миряне без различия пола и возраста.
Поспешно окончив проповедь, миссионер попятился к выходу. Но тут старуха засуетилась, схватила ачульхин и, что-то говоря, пододвинула его отцу Амвросию. Тот отшатнулся, сказал, что ему не нужно, и в подтверждение остался в пологе.
Вскоре прихожане начали расходиться по своим шатрам а хозяева — кушать оленину, ничуть не смущаясь, что нарушают великий пост. Амвросий отправился в другие яранги и увидел то же: всюду ели мясо… Он попытался вмешаться в это нарушение закона божьего, но чукчи ответили через переводчиков, что законов таньгов — белых людей — они не знают, но разве может быть такой закон, по которому человек должен голодать? Отец Амвросий сообразил, что чукчи правы, так как мясо — основная пища оленеводов, такая же, как хлеб у европейцев. И он тут же решил: для чукчей пункт о посте из православия исключить.
Ночью в одной из яранг шаман гремел бубном, а утром к миссионеру начали приходить чукчи со шкурками лисиц и песцов, требуя за них разные товары. Амвросий увлекся обменом даров, и дни непогоды прошли незаметно.
Когда же хозяин одного из стойбищ потребовал у миссионера платы за прокорм собак, а в другом кочевье вообще отказались от проповеди, спеша на новые пастбища, Амвросий пришел к выводу, что еще некоторые пункты из указаний епископа «О задачах, обязанностях и средствах миссий» следует исключить. Таким образом, его деятельность упрощалась: беседы о христианстве стали лишь вводной частью к обмену дарами.
Отец Амвросий был человеком неглупым, понимал, что насколько благотворна его миссионерская деятельность была в Нижнеколымске, настолько бесперспективна она здесь. Он отлично видел, что обратить в христианство кочевников Севера — дело не только непосильное для него, но и вообще нереальное. Он знал, что никогда больше не встретится с теми, кому ныне проповедует слово божие. Теперь он возлагал надежды лишь на оседлых, береговых жителей. И, чтобы не терять понапрасну времени, он совсем перестал руководствоваться указаниями епископа, а прямо приступал к обмену дарами, как называл торговлю. Время шло, а до вскрытия рек он должен объехать побережье от Колючинской губы до Мичигменской и вернуться в Нижнеколымск.
Еще в тундре один из переводчиков отказался ехать дальше и вернулся домой. Его не стали задерживать, так как операции с дарами мог вполне обеспечить второй, да и многие чукчи знали русский язык.
Лишь в начале марта миссия въехала в поселок береговых чукчей близ Ванкаремской лагуны. В первой же яранге, куда заполз отец Амвросий, он увидел картину, которая заставила его ужаснуться. В полумраке квадратного помещения, обнаженные, покрытые струпьями чесотки, лежали чукчи. Опершись на локоть, держа у груди ребенка, безучастно смотрела на Амвросия молодая чукчанка. Черный от копоти потолок усиливал впечатление страшной тесноты. По одну сторону у горящего жирника сидела раздетая девочка, по другую — пожилая женщина с татуировкой на носу, на щеках, на лбу. Она обмакивала кусок кожи в ачульхин и натирала им выделываемую шкуру. Амвросий молча оглянулся. Переводчика не было. Неуклюже пятясь, Амвросий поспешно выбрался наружу. Чукчанка оставила ребенка и поправила меховой полог.
Пока Амвросий устраивался на ночлег, выбирая ярангу почище, проводник маялся в поисках корма для собак. В селении — голод. Охоты нет, на много миль — торосистые льды. Люди бродят мрачные, худые.
В поселке, как показалось миссионеру, не было разделения на богатых и бедных; все, думал он, здесь равны и в дни редкой радости, когда бывает удачная охота, и в дни, недели, месяцы, когда одного тюленя, добытого кем-либо, делят между всеми ярангами. Кто хороший охотник, того старики чтут, девушки любят: кто убил зверя, тот и знатен. Но нет охоты — и тускло теплится жизнь поселка.
Обмена дарами здесь не состоялось: пушнину уже выкачали поворотчики — скупщики-одиночки из местного населения и торговые агенты русских купцов. Поворотчики, кочуя по тундре, вели меновой торг, вывозя затем пушнину на Анюйскую ярмарку или к берегам Берингова пролива, куда летом приплывали «бородатые люди» — американские китоловы и купцы. А минувшим летом здесь вдобавок побывал еще и «Морской волк».
На следующее утро Амвросий заторопился дальше на восток, в другое селение, чтобы спасти от голодной смерти собак, часть которых, изнуренная столь длительной дорогой, уже не была способна тянуть груженые нарты.
В этот день с полдороги незаметно отстал второй переводчик, опасаясь за жизнь своих личных собак. В поселке у Колючинской губы Амвросий оказался один с тремя упряжками истощенных ездовиков.
Здесь свирепствовала эпидемия какой-то болезни. Из-за тяжелых льдов охота и летом и сейчас была плохая. Ослабленные недоеданием, чукчи едва держались на ногах.
Ценой больших даров и усилий приезжий достал собакам по куску гнилого мяса. Выступить с проповедью он не решился. Разве могла она помочь больным, голодным людям?
Ночью долго не спалось. По телу ползали насекомые, расчесы болели. Бесплодность миссии становилась очевидной. Воспоминание об указаниях епископа вызвало в душе у проповедника веры христовой еще большее раздражение. Но, прикинув в уме количество полученных в пути даров, Амвросий прочел молитву и уснул.
Еще до света явились чукчи. Им нужны были чай и табак.
Амвросий начинал кое-что понимать по-чукотски. Ему удалось выяснить, что неподалеку кочует оленевод. Выход был найден. Быстро закончив торговлю, он нанял проводника, собрал оставшихся собак — часть их разбрелась в поисках пищи — и на двух нартах уехал с побережья к сытно живущим оленеводам.
Теперь его путь лежал уже не на восток, а на запад.
Нарты были перегружены. Собаки ослабели. Целый день пришлось идти пешком рядом с упряжками. Ночь застигла в тундре. Разыгрывалась пурга.
Амвросий трясся от холода и страха: «А вдруг проводник не найдет кочевника? А если пурга захватит на неделю? Придется есть собак…» В душе он уже проклинал свою поездку. Все его стремления были теперь направлены к тому, чтобы живым добраться к матушке, к чадам своим. За все время он первый раз попал в пургу ночью, без корма и опытного проводника. Изредка он поглядывал на большие тюки из оленьей кожи: в них хранились драгоценные дары — почти полтораста песцовых и лисьих шкур. Пурга все усиливалась. Чтобы не замерзнуть, Амвросий бегал вокруг полузасыпанных снегом собак. Проводник, прислонясь к нарте, дремал. Амвросию хотелось есть, но кроме чая, табака, женских украшений да сотни железных крестов, ничего не осталось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: