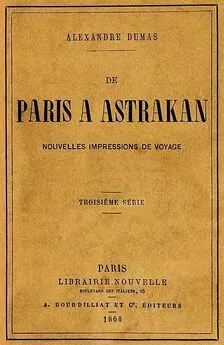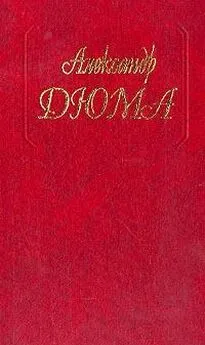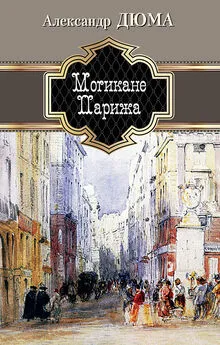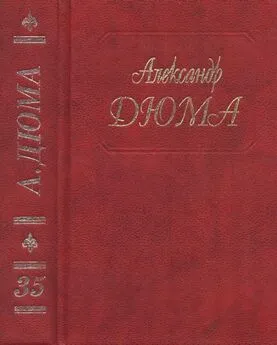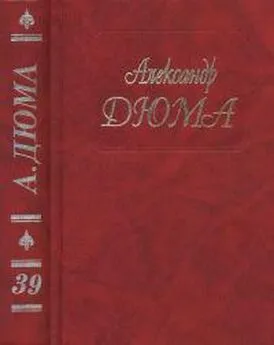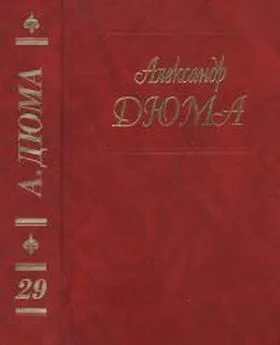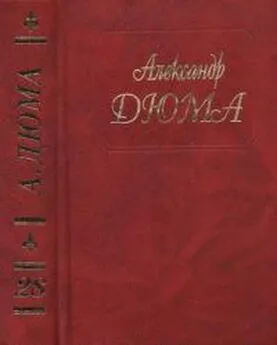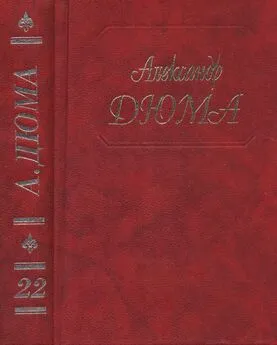Александр Дюма - Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию
- Название:Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Спутник+»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9973-0453-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дюма - Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию краткое содержание
Книга писателя мировой величины о России, изданная на Западе в разные годы двух последних столетий. К переводу принят текст, который сам Александр Дюма-отец отправлял в типографию. Это крупные путевые очерки с глубокими экскурсами в историю нашей страны. В них свои портретные рамы покидают государи и вельможи, реформаторы и полководцы, поэты и декабристы, становясь героями увлекательных и познавательных новелл, непрерывная цепь которых тянется через события веков от русских княжеств к империи Александра II, современной писателю. Воссозданы картины великих побед над «непобедимыми» армиями Карла XII и Наполеона. Оставлено клеймо гнусного рабства на крепостном строе, высмеяны царящие в стране злоупотребления и коррупция.
Книга складывалась во время путешествия Александра Дюма по России в 1858―1859 годах. Основные замечания и выводы писателя не утратили своего значения. Россия еще долго будет узнавать себя в зеркале этих очерков.
Перевод, вступительная статья и примечания: Владимир Ишечкин
Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он был в Костроме, когда узнал о своем избрании. Фамильный дом, где он тогда жил, цел и как объект почитания русских рекомендуется ими любопытству иностранцев.
Что же до Сусанина, памятник которому был третьим объектом нашей высадки в Костромe, то это еще и памятник русской признательности не просто человеку из народа, но крестьянину. Взятый в качестве проводника поляками при их проходе через деревушку Карабаново, вместо того, чтобы вывести армейский корпус, что ему доверился, на Московскую дорогу, о чем он получил приказ, он увлек его на проселки и завел в глубину одного из этих огромных русских лесов, где, раз заблудившись, чужеземец, как и в девственных лесах Америки, не отыщется, если не чудо.
Забравшись в лесную глушь, Сусанин признался полякам, что не просто заблудился, но сбился с дороги в намерении всех погубить. Ни угрозы, ни побои не могли с тех пор принудить его вернуть врага на дорогу. Сусанин пал под ударами, но его не смогли заставить сдвинуться с места. Его последний вздох отнял у поляков их последнюю надежду. После бесплодной попытки выбраться на большую дорогу этот армейский корпус, сознавая, что действительно по-настоящему заблудился, погибает от голода, почти погребенный снегом, рассыпается на ищущих случайного спасения; но никто не выходит из леса. Все, кто в него вошел, там и остались, и тела трех тысяч поляков стали кормом для волков.
Деревня Карабаново, где родился Сусанин, царем Михаилом Романовым навсегда была освобождена от подати и призывов в армию мужчин. Злые языки утверждают, что это благо сделало деревню самой беспутной в России.
Памятник Сусанину ― круглая колонна из розового финляндского гранита, увенчанная бюстом великого князя Михаила Романова; барельефы пьедестала рассказывают всю историю самопожертвования крестьянина из деревни Карабаново.
Мы возвращались к пароходу не без боязни. Мы вышли за разрешенные нам пределы на три битых четверти часа; но княгиня обещала употребить все свое влияние на командира судна, который, впрочем, принимая меня за крупную политическую фигуру, не требовал от меня особой пунктуальности. Прибыв на берег Волги, заметили, стало быть, пароход покачивающимся на том же месте, где его оставляли, и княгиню Анну на палубе, поджидающую наше возвращение и делающую все, что бы капитан набрался терпения.
Нет ничего прелестней дорожных знакомств, которые за несколько часов уподобляются старинной дружбе, длятся день-два, но память о них живет в будущем и в вас, чистая, как уголок лазурного безоблачного неба. Встреча с этой очаровательной женщиной ― одно из таких воспоминаний.
Едва мы ступили на палубу парохода, как он пошел, пытаясь наверстать потерянные три четверти часа.
С первых дней я заметил, что наш бедный Калино, лучший студент Московского университета, имел воистину университетское воспитание, то есть совершенно не знал истории своей страны. К счастью, рядом была княгиня Долгорукая, которая, не получив университетского воспитания, была, не скажу, столь же ученая, но в той же степени знающая, в какой наш школяр был невежествен. От истории разговор перешел к поэзии. Мне подумалось, поскольку путешествие не обещало нам никакой живописной случайности и никакого исторического эпизода, наступил момент использовать национальную гордость, чтобы сделали для меня перевод из Лермонтова. Только не знал, где оставил том стихотворений. Но одно слово, и княгиня Долгорукая выручила меня.
― Вы ищите Лермонтова? ― спросила меня она.
― Да, ― ответил я. ― Но думаю, его потерял.
― Пусть это вас не волнует, ― сказала она. ― Лермонтова я знаю наизусть. Назовите, какое желаете, стихотворение, и для вас я его переведу.
― Это вам выбирать то, что нравится больше всего, княгиня. Я не так близко знаком с вашим поэтом, чтобы сделать самостоятельный выбор.
― Хорошо, тогда переведу одно, которое даст вам представление об его поэтической манере.
И княгиня берет перо и так же легко, как если бы писала под диктовку, действительно переводит мне одно из самых замечательных стихотворений Лермонтова. Это произведение, озаглавленное «Дары Терека», вещь до конца самобытная [Из 10 строф приводим две, первую и последнюю].
Мы сказали, что у каждого народа есть своя национальная река; Терек ― такая река для черкесов и казаков линии; линейными называют казаков, селения которых окаймляют Кавказ.
ДАРЫ ТЕРЕКА
Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:
«Расступись, о старец-море [238] Каспийское море, в действительности, ― только огромное озеро. (Прим. А. Дюма.)
,
Дай приют моей волне!
…
Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой
Колыхаяся всплыла.
И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный, ―
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.
Такая поэзия, очевидно, ― нечто странное и неизвестное для нас; у нее дикий привкус, который трудно просачивается в наши города; она изумила Россию и имела там огромный успех.
Перевод отнял у меня часть ночи. Последовательно, по мере того, как княгиня делала перевод на французский, я обращал его в стихи.
Княгиня простилась с нами утром следующего дня. Волжские суда не ходят ночью, за исключением весны, когда тают снега; на Волге не меряна глубина, и капитаны постоянно боятся посадить судно на мель. Мы остановились, чтобы провести ночь à Plan ― в Плане [Плесе]. Назавтра утром пароход остановился между Планом и Решмой [в районе Кинешмы]. Настало время сказать друг другу «прощай». Княгиня высаживалась в одном из своих владений, выходящем на Волгу, где она решила провести несколько дней. Я сошел первым в лодку, чтобы помочь княгине спуститься, и, хотя трап был крутым, она достигла лодки благополучно. Не повезло старой компаньонке: она поскользнулась и упала в реку.
Но поистине с мужской силой княгиня ухватила ее рукой и держала наплаву, тогда как я удерживал княгиню в лодке. Нашими объединенными усилиями удалось вытащить бедную женщину из реки, но она выбралась вымокшей до костей. И в какой воде! Вода уже замерзала. Не было средства согреть потерпевшую, кроме как на берегу, так что наше прощанье было очень ускорено этим несчастным случаем.
Пароход продолжил путь, а лодка во все весла достигла волжского берега, где, мы увидели, сошла княгиня и взмахом платка подала нам последний дружеский знак. Свершилось еще одно очаровательное событие, чтобы оставить во мне только дым, называемый воспоминанием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: