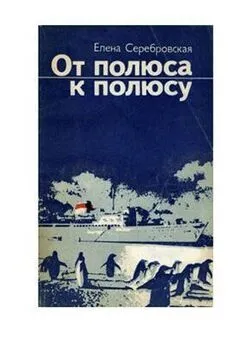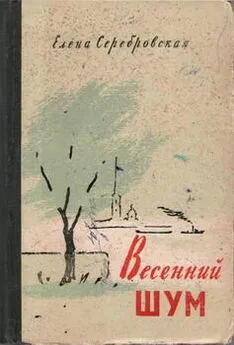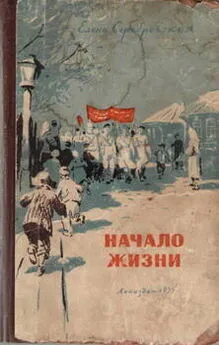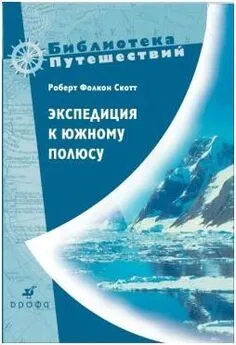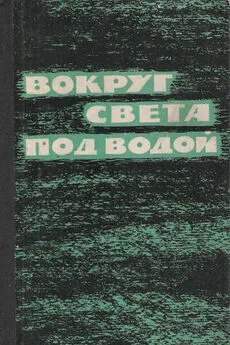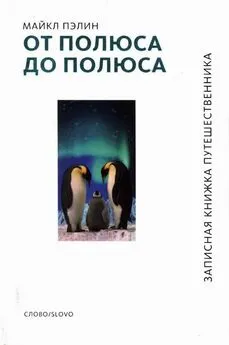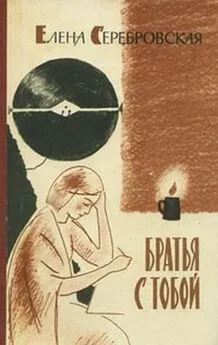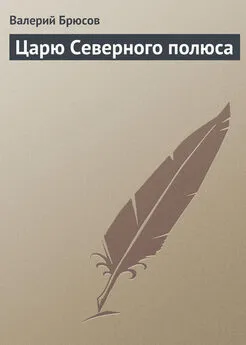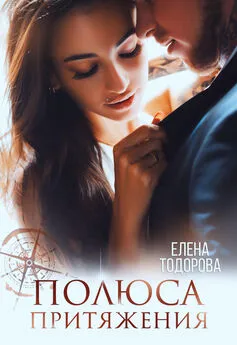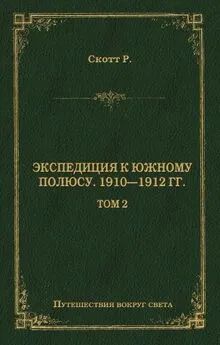Елена Серебровская - От полюса к полюсу
- Название:От полюса к полюсу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Серебровская - От полюса к полюсу краткое содержание
Книга Елены Серебровской посвящена жизни и деятельности замечательного советского географа, исследователя полярных районов Земли (Арктики и Антарктики), Героя Советского Союза, доктора географических наук Михаила Михайловича Сомова. М. М. Сомов показан всесторонне: как ученый и человек, умеющий сплачивать коллективы, и как гражданин и коммунист, ни на миг не забывающий об интересах дела и интересах Родины в самом высоком смысле слова.
От полюса к полюсу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
обслуживания народного хозяйства гидрологическими прогнозами на всех морях страны.
Пришлось вплотную заняться ледовым режимом наших арктических морей, чтобы
подготовить долгосрочный ледовый прогноз по всей трассе Северного морского пути на
навигацию 1938 года.
Самый первый ледовый прогноз в нашей стране был дан в 1923 году профессором
В. Ю. Визе для Баренцева моря. Накануне своего плавания на «Сибирякове» Визе занялся
прогнозом и для остальных арктических морей нашей державы. Опыт пока еще был
весьма не велик.
Названные нами выше научные статьи Сомова рождались в прямой связи с
необходимостью решать практические задачи. Молодой ученый собрал и исследовал все
материалы, сколько-нибудь относящиеся к делу. Он не раз выражал убеждение в том, что
ледовые прогнозы зависят и от прогнозов погоды, что без теснейшего контакта с
метеорологами такая работа осложнена необычайно. Ее успех затрудняет и примитивная
техника исследований и наблюдений, их количественная бедность. Сплошная область
неизвестного!
А жизнь не хотела ждать, она торопила. Долгосрочный ледовый прогноз по всей
трассе Северного морского пути, шутка сказать! Очень ответственно и очень трудно. А
разве легче четверке ученых, решившихся дрейфовать на льдине по Северному
Ледовитому океану! Он, Сомов, тоскует о нехватке буев, — а эта четверка плавает невесть
где и делает замеры, исследования в воздухе, на льду, подо льдом...
Для выполнения полученного задания Сомов привлек своего друга Ивана
Гавриловича Овчинникова, окончившего тот же Гидрометеорологический институт,
талантливого человека изумительной душевной чистоты. Овчинников уже зарекомендовал
себя как многообещающий молодой океанолог. На его научные труды ссылался не только
Сомов, но и сам профессор Зубов. Это и понятно: гордость и счастье настоящего ученого
не в том, чтобы подмять слабейшего, а в том, чтобы вокруг, вблизи расцветал целый сад
новых талантов!
Михаил Михайлович, мало заботившийся о своем архиве, сохранил пачку
интереснейших писем Овчинникова, которого нежно называл Ванюшка. В них зримо
виден молодой, энергичный, брызжущий юмором человек, полный замыслов и счастливых
идей. Всем им жилось тогда трудновато материально, бытовые сложности обступали. Но
никогда мелочи быта не выползали на первый план. Люди жили любимым делом,
интересами науки.
Между друзьями было полное родство душ, они говорили сходным языком,
шутили в одном ключе, понимали друг друга с -полуслова. Обоих ожидало блестящее
будущее.
Кто мог предвидеть Жесточайшие удары Великой Отечественной войны и то, что в
1942 году самолет, на котором будет лететь Овчинников, погибнет, сбитый фашистами в
Арктике! А чемодан с вещами Ивана и страшное известие о его гибели доставит молодой
вдове Сомов...
В 1937 году никто этого знать еще не мог. Жизнь кипела, сила играла в молодых
умах. «Мы разделили с ним Арктику пополам, — рассказывал Сомов. — Я взял себе
западный район, то есть Карское море и море Лаптевых, Овчинников — восточный район
с его морями Восточно-Сибирским и Чукотским... Используя все наличные материалы и
дружно помогая друг другу, мы принялись за работу с таким рвением, что худо ли, бедно
ли, но к назначенному сроку положили на стол директора готовый, достаточно конкретно
сформулированный прогноз».
Потом Сомов докладывал этот прогноз на Межведомственном бюро. Среди тех,
кто его слушал и одобрил, были основоположники теории ледовых прогнозов профессора
Зубов и Визе. На этом заседании приняли много конкретных предложений и среди них
зубовское — об участии гидрологов-ледовиков в авиаразведке. Согласился с этим и
присутствовавший начальник Управления полярной авиации Герой Советского Союза И.
П. Мазурук.
Сомов поступил в распоряжение Главсевморпути и был срочно отправлен на место
будущей работы. Он выехал, не получив никаких конкретных указаний, потому что среди
окружающих его людей не удалось найти ни одного человека, который собственными
глазами видел бы лед с самолета. В Красноярске, встретившись с авиаторами, он убедился
в том, что полученное им в Москве обмундирование никуда не годится, что летать
придется на гидросамолете и вместо валенок лучше иметь болотные сапоги.
В ожидании самолета Сомов поселился в гостинице на острове Молокова,
расположенном между широкими берегами Енисея. Она была заполнена молодым
народом — летным составом и аэродромными работниками с их семьями.
Здесь зародилась дружба Михаила Михайловича с полярными пилотами,
бортмеханиками, радистами, штурманами. Среда эта надолго стала для него родной, а
многие ее представители — настоящими друзьями. С их помощью он хорошо изучил
«Дарью» — так фамильярно назывался у них гидросамолет Дорнье-Валь, экипаж которого
состоял из шести человек.
Летающая лодка, подобие сигары, закрыта сверху палубой из гофрированного
дюраля. В ней пилоты и гидролог-наблюдатель сидят, высунувшись наружу из
прорезанных люков, защищенные лишь небольшими целлулоидными козырьками... Место
пилотов было еще кое-как оборудовано, гидролог же помещался сзади, на месте стрелка-
радиста, в условиях более тяжелых. Жесткое, без спинки, откидное сиденье. Козырек
защищает только от непосредственного удара струи воздуха, но не спасает от жестокого
обдувания со всех сторон обтекающими струями. Гидрологу достается и мощная струя,
отбрасываемая назад пропеллером. Два мотора ревут в самые уши.
Когда Сомов, впервые в жизни поднявшись в воздух, рискнул высунуться из люка,
он тотчас выбыл из строя: захлебнулся ветром, заслезились глаза, окоченел. Ветер рвал до
боли волосы, выворачивал плотно сжатые губы. Дуло не только спереди, но и со всех
сторон. За спиной ветер надувал меховую рубашку, как парус.
Но дела ради надо ко всему приспособиться, привыкнуть, и он привык. Научился
бегло определять характер льдов под крылом, не путать снежницы с разводьями. Лед
блинчатый, капитальный, паковый, торосы, ропаки, ледяная каша, ледяные поля,
разреженный лед... До сих пор он видел их в основном да фотографиях. Учился быстро
прикидывать на глаз балльность льда и размеры занимаемого им пространства и наносить
его на карту, условными обозначениями. В ту пору методика нанесения на карту
визуальных наблюдений еще не была разработана. Гидролог в сущности летал в качестве
летчика-наблюдателя.
Авиаторы полюбили молодого гидролога преданно и крепко. Он делил с ними
трудности авралов на остановках и вынужденных посадках, помогал чехлить самолет,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: