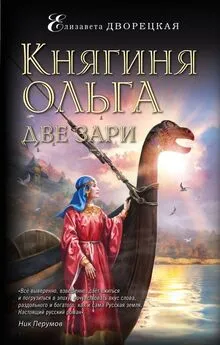Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Название:Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторское
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] краткое содержание
Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, мы рассмотрели историю возникновения летописной легенды о том, что у княгини Ольги имелся каменный терем и ею было положено начало каменного строительства на Руси. На самом деле легенда возникла так: в конце Х века Владимир привез из Херсона бронзовую квадригу и для нее был сооружен на Старокиевской горе, близ Десятинной церкви, каменный помост; к времени создания ПВЛ, через полтора века, квадриги уже не было, а полуразрушенный помост считали остатками каменного терема Ольги – поскольку знали, что она в какой-то момент (после крещения?) переехала с Замковой горы на Старокиевскую. Из-за этого в легенду и оказалось включено, что именно сюда киевляне принесли от Днепра древлянских послов в лодьях, хотя на самом деле княгиня в период Древлянской войны жила на другой горе (Замковой). Упомянутый в летописи терем пытались найти и несколько раз принимали за него другие сооружения, возникшие позже. То есть в XII веке за руины терема принимали остатки постамента под квадригу, а в ХХ – уже другое, остатки сооружений конца Х – XII века. Те и другие ошибались, но благодаря легенде и раскопкам «каменный терем Ольги» прочно вошел в «большой миф». Даже вы вот, прочитав все это, все равно видите ее мысленно в высоком каменном тереме с резьбой…
Что эта схема формирования легенды может оказаться верной, показывают новейшие сведения. Вспомните каменную обкладку кургана под Псковом: после того как археологи нашли каменное кольцо вокруг основания кургана, местный фольклор немедленно породил не только «башню Ольги» как объект, но и целую легенду о том, как она стояла на этой башне, высматривая Игоря. А это ведь наше время, вот наши дни, когда научных данных гораздо больше, а устные сказания имеют гораздо меньшее значение. Какого уж критического мышления требовать от людей XII века…
Однако, с жертвенником или без жертвенника, нахождение на Старокиевской горе сакральной зоны (могильник, возможно, со святилищем) вполне вероятно. А значит, лет через 10–12 после смерти мужа, когда сын вырос, княгиня Ольга переселилась не просто на пустое место, а в сакральную зону. Шаг странный и вызывающий – славянские святилища всегда находятся вне жилой зоны, и в них никто не живет. Он должен иметь объяснение. Уж не искала ли она защиты под сенью святилища? С одной стороны, странно было бы христианке спасаться в святилище. С другой – там ее не тронут, если она сама не будет обижать богов.
И на эту тему – о близости княгини к богам, – мы можем поговорить все еще в связи с первым древлянским посольством, похороненным в своих ладьях.
…И как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму…
При всей фантастичности сюжета о «первой мести Ольги» сама идея того, что людей в лодке закапывают в землю, ничуть не фантастична. Так делали на протяжении тысячелетий у самых разных народов. Правда, принято было закапывать в лодке уже мертвых людей. Обряд погребения в лодке археологически фиксируется еще в V веке до нашей эры – за полторы тысячи лет до случая с древлянскими послами. С чем это связано, мы уже упоминали в теме «девушка на переправе»: переход в иной мир мыслился как переезд через водную преграду, для чего, разумеется, нужна лодка, и это представление можно отнести к общечеловеческим. Ближайший к Ольге пример мы тоже приводили: в Старовознесенском могильнике Пскова есть погребение мальчика, вместо гроба уложенного в лодку-долбленку, и этот мальчик был непосредственно ее современником. Одной из женщин в том же могильнике дали с собой два весла; возможно, они были включены в погребальное имущество просто наряду со всем прочим ее добром, а может быть, не без мысли о предстоящей ей переправе. Захоронение в корабле\лодке было широко известно у скандинавов и имеет очень известные примеры (корабль из Осеберга). «Знатного руса» на Волге погребли в корабле (Х век); оставивший это описание арабский путешественник Ибн Фадлан пишет, что когда умирает бедный человек их среды русов, то для него делают маленький корабль и сжигают. Известны погребения такого типа в землях балтийских славян. Есть интересные данные о погребениях в лодке на территории Украины; лодкой был накрыт похороненный князь Глеб Владимирович (начало XI века). Также есть данные, что ладьевидные крышки гроба бытовали на Украине до позднего средневековья. Собственно у восточных славян погребение в лодке массового, широкого распространения не имело, но идея лодки как средства переправы на тот свет им, несомненно, была знакома хорошо.
И вот ПВЛ пишет:
«На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями, и пришли к ним и сказали: «Зовет вас Ольга для чести великой». Они же ответили: «Не едем ни на конях, ни на возах, ни пешком не идем, но понесите нас в ладье». И ответили киевляне: «Нам неволя; князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя», – и понесли их в ладье. Они же сидели, избоченившись и в великих нагрудных бляхах. И принесли их на двор к Ольге и как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму».
Отметим здесь один тонкий момент. Когда древлян несут, в оригинале написано: «Они же сѣдяху в перегбех въ великихъ сустогахъ гордящееся». Эти загадочные «в перегбех в сустогах» вызвали у историков много разных предположений. Все наши историки – Татищев, Карамзин, Соловьев – это место опустили и написали что-то вроде «древляне сидя важничали» или «гордящиеся сидели». Карамзин считал, что «перегибы» – это такие лодки, а «сустоги» означают кривляние. По мнению Соловьев, оба слова означают род одежды от понятий «перегибать» и «стягивать», и в целом он ближе к правде. В примечаниях [56] В публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН.
написано, что значение термина «сустога» неясно, и переведено как «в великих нагрудных бляхах». Однако никаких нагрудных блях в древнерусском костюме не было. Б. А. Рыбаков, помнится, предполагал, что «сустоги» – это застежки, и очень похоже на правду: во внутренней форме этого слова отчетливо видно «со-стегивать». Застежки (известные под кабинетным термином «фибулы») в раннесредневековом костюме распространены были очень широко.
Но это всего лишь матчасть. Мы же имеем дело с художественным произведением, а значит, всякая деталь в нем несла художественную нагрузку. Какую же? Зачем предание сохранило эти «великие сустоги»?
В собственно славянском костюме этого времени, в частности, древлянском, фибулы ничего интересного собой не представляли. Самый простой недорогой тип – так называемый подковообразный: разомкнутое металлическое кольцо (медное) с закрученными вверх концами и поперечной иглой. Совсем другое дело – скандинавский костюм. В нем имелись (в том числе и найдены на Руси) в большом количестве роскошные типы фибул: бронзовые, серебряные, с чеканкой, позолоченные, с литыми узорами, с искусно сделанными драконьими головками на концах. Можно предположить, что древляне, убив Игоря и его малую дружину, забрали у них эти застежки и скололи ими собственные плащи: в слове «перег(и)бех» – «перегиб» прослеживается намек на плечевую одежду, наброшенную путем перегибания, что подходит к «сустогам» – самые большие фибулы именно плащевые. Те действительно бросались бы в глаза. Очень логично для образа «глупых гордецов». Приехать в дом убитого, неся на себе яркое свидетельство своего преступления, было бы цинично для пришедших в большой силе, но крайне безрассудно для явившихся вдвадцатером.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]](/books/1068370/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-plameneyuchij-mif.webp)



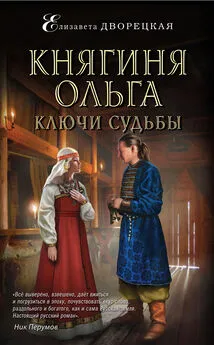
![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Сокол над лесами [litres]](/books/1078936/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-sokol-nad-lesam.webp)