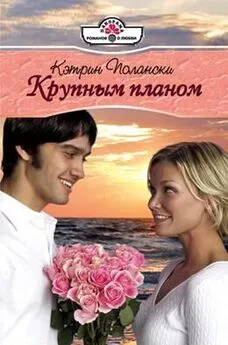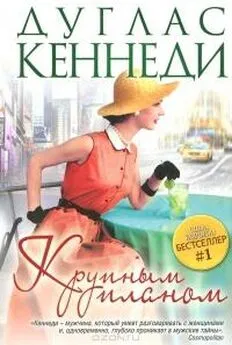Олег Воскобойников - Средневековье крупным планом
- Название:Средневековье крупным планом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-107431-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Воскобойников - Средневековье крупным планом краткое содержание
Средневековье крупным планом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Древнегерманским термином ordal, родственным современному немецкому Urteil, называли в те века вообще суд, судебное разбирательство и судебное решение. Но, если рациональная судебная система предполагает решение, принимаемое лично или коллегиально с опорой на человеческую логику, то в ордалии в свидетели призывается Бог. Претендующий на невиновность должен быть уверен, что Бог не попустит обжечь ему руку, опущенную в кипяток или взявшую раскаленное железо, не утопит в реке, не обожжет ступни на костре. Здесь, как считалась, закон «открывается», и такой «открытый закон», lex aperta, сближал подобные испытания с поединком, в котором опять же Бог избирает своего, наводя справедливость. Но он же отличал ордалию от клятвы, тоже типичного для германцев и вообще традиционных обществ способа обелиться: риск ложной клятвы велик, но божественная санкция в клятве как бы откладывается, проверяется временем, в ордалии же – является здесь и сейчас. Письменные свидетельства зафиксировали отношение к этим, казалось бы, немыслимым испытаниям на разных концах Европы. В «Саге о Греттире» рассказывается, как герой, живший около 1000 года, должен был доказать свою невиновность в сожжении нескольких исландских бондов, ордалия должна была состояться в церкви (!), в присутствии конунга (!!!). Греттир, естественно, постился, морально готовился, но в последний момент вмешался лукавый: он подослал к нему бранчливого мальчишку, которого Греттир, идя на суд, случайно убил неосторожным тумаком. Понятно, что перед нами специфическая литературная фабула, но во всякой сказке (а сага и есть «сказ») – намек на правду, она описала ситуацию, понятную древнеисландскому читателю и слушателю.
Все это на фоне стройной системы римского права выглядит сущим бредом. Более или менее уверенная в себе современная Европа, в особенности до распада колониальной системы и во всеоружии антропологии, с успехом находила этому бреду параллели в традиционных обществах всей планеты, в далеком прошлом и в недалеком. И при этом подчеркивала, что держался он лишь до прихода спасительного разума, современной европейской правовой культуры, которой она в принципе заслуженно гордится. Переоценка собственных ценностей, комплекс вины и углубленный самоанализ всей западной культуры после двух войн и медленного, но верного отмирания колониального мышления повлекли к новым взглядам и на инаковость Средневековья, на Другое и на Чужое. А вдруг наши представления о надежности свидетельских показаний, института присяжных заседателей, чистосердечного или какого-то иного признания тоже не абсолютны, а лишь исторически обусловлены? Вспомним и мы «Братьев Карамазовых» Достоевского с его беспощадным развенчанием обновленного Александром II русского суда. Наконец, средневековому человеку наверняка показался бы бредом феномен ядерного оружия, которым – хочется верить – никому не придет в голову воспользоваться, но которое, во-первых, стоит недешево, во-вторых, безусловно является действенным рычагом в международной политике. Должны ли мы числить его в рамках юридического поля? Или оно будет «посильнее»?
Если вчитаться в различные тексты, повествующие об ордалиях VIII–XII веков, оказывается, что средневековое общество, принимая ордалию как норму, как многие сегодня принимают смертную казнь, выработало и множество тонких способов ее избежать. Более того, трудный, но все же возможный успех идущего на испытание мог нарушить то равновесие сил, к восстановлению которого стремился любой двух- или многосторонний суд. В особенности это свойственно миротворческим судам XI–XII веков. Сакрализация и ритуализация ордалии, недельные посты и богослужения позволяли группе сплотиться вокруг идущего на суд, его стремились изолировать от посягательств врагов и всякой нечисти. Это и объясняет коллизию «Саги о Греттире»: без сомнения, нечистый вмешался, и Греттир таки был осужден на изгнание – самое страшное наказание, делавшего изгоем, беззащитным перед лицом любого врага. Не следует видеть в ордалии и какое-то отклонение от христианства, даже если Церковь в лице своих прелатов или соборов от нее открещивалась и окончательно закрепила свою позицию на IV Латеранском Соборе в 1215 году. Ветхий Завет давал христианину множество свидетельств того, как Бог милует праведника, помогает ему в тяжких испытаниях, изгоняет врагов, ищущих души его (так на древнееврейском говорили об убийстве). Такова поэтика псалмов, по которым учились читать и молиться все, кто вообще готов был чему-либо учиться. Христианизация ордалии не была идеологическим камуфляжем, но логическим следствием христианского, библейского мышления. Заявить, что оно попросту иррационально, ибо религиозно, значит, не объяснить ничего. И все же собор 1215 года свидетельствовал об изменении в коллективной ментальности: эпоха ордалий уходила в прошлое. В новых представлениях о природе и человеке каждая успешная «экспертиза» такого рода по определению проходила по разряду чуда, но она же зачастую мешала исполнению правосудия, контроль над которым, соревнуясь друг с другом, стремились взять на себя духовные и светские власти. Возрождение широкого, неподдельного общественного интереса к римскому праву, становление юриспруденции церковной и светской, укоренившейся даже в канонизации святых, можно считать одновременно и следствием этой новой волны рационализации и ее катализатором.
Средневековое общество, принимая ордалию как норму, как многие сегодня принимают смертную казнь, выработало и множество тонких способов ее избежать.
Парный поединок, по-латински duellum, тоже был и отчасти остается традиционным способом выяснить, кто прав, а кто виноват. Это касалось не только знати, для которых бой был профессией и общественным долгом, но и для крестьянства, горожан, изредка даже для клира и, что совсем удивительно, для женщин. Но особую популярность этот род «Божьего суда» обрел именно среди рыцарства в эпоху расцвета, в XI–XII веках. Поэтому судебный поединок в отместку за смерть Роланда подробно описывается в знаменитой «Песни», как раз тогда и зафиксированной письменно. Поединки заканчивались вовсе не всегда убийством, как в этом эпосе, но и кровь, и падение с коня, и любой видимый признак поражения одного из противников указывал на волю Творца. Церковь, естественно, осуждала вообще всякие способы искушения Бога и попытки выяснить Его волю. К ней иногда присоединялись и короли. Но речь шла обычно о чести, важнейшей составляющей рыцарской системы ценностей, поэтому запретить поединки было так же трудно, как и «частные войны», эти по сути своей коллективные «разборки», поднимавшие замок на замок, деревню на деревню, дружину на дружину ради интересов какого-нибудь особенно строптивого графа или его норовистой жены. Вспомним Шекспира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: