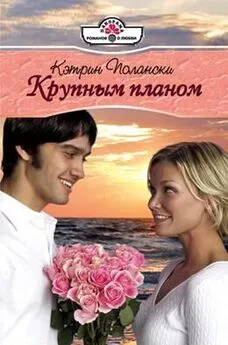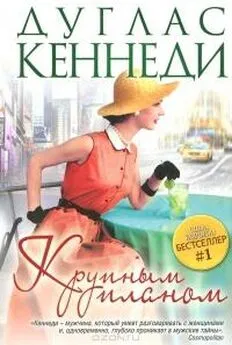Олег Воскобойников - Средневековье крупным планом
- Название:Средневековье крупным планом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-107431-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Воскобойников - Средневековье крупным планом краткое содержание
Средневековье крупным планом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Будучи личным заказом конкретного епископа, но вместе с тем работой по-настоящему крупного мастера, триптих можно понимать как квинтэссенцию средневековой экклезиологии, учения Церкви о себе самой. Ее храм вмещает в себя и Бога в момент его спасительной смерти на кресте, и его мать, и апостолов в лице Иоанна. Здесь же, начиная с крещения и заканчивая предсмертным елеосвящением (которое на самом деле осуществлялось на дому), протекает жизнь каждого человека, от рождения во Христе до последнего вздоха, который всегда обращался опять же к Богу, с надеждой вернуться на небесную родину. Словно бы только церковь, именно конкретная постройка, и могла придать смысл земному бытию индивида. Визуальный эффект этого удивительного произведения в репродукции, конечно, не воспроизводим, хотя бы потому, что мы должны себе представить его стоящим внутри храма. Созерцание его в таких условиях должно было вводить зрителя в бесконечную череду смыслов, он видел церковь внутри церкви, себя самого рядом со знакомым ему епископом, участвующим в крещении. Его собственная церковь сливалась в его сознании с Церковью, вне которой он уже попросту не мог себя помыслить. И при этом видимом ограничении его мира стенами храма картина вовсе его не принижала, а напротив – возвышала. Нетрудно заметить, что точка зрения художника здесь сильно приподнята над уровнем пола. В результате он смотрит на сцену распятия сверху вниз, у него на глазах его церковь превращается в Голгофу, а гигантский крест возносится к самым сводам, фактически сливаясь с пространством храма. Совмещение нескольких изобразительных проекций в рамках одной перспективной композиции – прием для фламандцев типичный, но здесь он использован с особым мастерством и с особым смыслом. И крест, и фигуры убитых горем Марий и апостола настолько реальны, что общее впечатление – ирреально. Чтобы спастись от этого наваждения, решить эту визуальную загадку, наш взгляд сам собой уходит к той небольшой детали, которая на самом деле обладает здесь центральным значением – творящему Евхаристию священнику. Ибо именно главное таинство зрительно замыкает на себе «перспективу» из шести других. И именно оно регулярно, каждую неделю, тысячелетиями возвращало и возвращает каждого христианина в лоно Отца.

Эти странные, странные города


«По-моему, большое восхищение вызывает вид всего города, где столько башен, столько дворцов, что их никому не пересчитать. Когда я вначале увидел его издалека, со склона горы, мой пораженный ум припомнил слова Цезаря, сказанные, когда он, победив галлов, пересек Альпы, “дивясь на стены родимого Рима”: “Этот приют божества неужели покинут бойцами / Без понуждений врага? За какой еще город сражаться? Слава богам”». Такое чувство испытал где-то в начале XIII века английский путешественник, некто Магистр Григорий, оставивший о своих «римских каникулах» замечательное воспоминание: «Чудеса города Рима». Приведенный здесь зачин, с его эрудитской отсылкой к «Фарсалии» Лукана, передает особое отношение мыслящего и эстетически не бесчувственного средневекового человека к городу в целом. Конечно, дивиться Римом – дело не оригинальное как сегодня, так и в Средние века или при Цезарях. Но, как и у всего, в средневековых представлениях о городе, в самом этом феномене есть своя специфика, отчасти понятная нам сегодня, отчасти созвучная нашему эмоциональному складу, отчасти, напротив, оставшаяся в прошлом. На ней мы и остановимся.
Я неслучайно начал с Рима. Он был Городом, Urbs, уже для греко-античного мира. «Что было миром, ты сделал городом», – обращался к Риму Рутилий Намациан. На латыни играть словами urbi et orbi так же легко, как по-русски Римом и миром. Естественно, что столичная модель более или менее последовательно имитиировали в пяти тысячах больших и малых городов Империи. Несмотря на все разорения V–VI веков и настоящий упадок, он оставался на протяжении всего Средневековья воплощением самой идеи города. В этой идейной значимости для Средневековья с ним сопоставим лишь Иерусалим, город такой же далекий и такой же желанный, как царствие небесное. Вот что Рим сам рассказывает о себе в одной элегии, написанной около 1100 года Хильдебертом Лаварденским:
Властвовал я, процветая, телами земных человеков, —
Ныне, поверженный в прах, душами властвую их.
Я подавляю не чернь, а черные адовы силы,
Не на земле – в небесах ныне держава моя [7] Пер. М. Л. Гаспарова.
.
Город земной и небесный сопоставляются здесь так, словно это нечто само собой разумеющееся. Ведь Церковь, основанная здесь апостолом Петром, не совсем от мира сего. Но она вместе с тем – в городе, «поверженном в прах». Руины здесь стали нормой уже в VI веке, но они стояли так надежно, что еще на офортах эпохи Возрождения (илл. 39) мы находим их такими же величественными, какими восхищались современники Хильдеберта и Григория. Миллионной столице на тысячу лет пришлось стать обиталищем для населения, сократившегося в двадцать раз, и выйти за свои имперские границы лишь при Муссолини, то есть опять при империи… Отсюда хорошо видимые на подобных офортах пустыри. Храмы богов воображение местных жителей, воспаленное летней жарой и малярией, населило драконами и прочей нежитью, на борьбу с которой периодически отправлялись то святые, то понтифики. Ветшавшие арки в честь забытых триумфов в лучшем случае превращались в ворота и сторожевые башни – и в таком виде дожили до Нового времени (илл. 40).
И все же помнили, говоря словами того же Хильдеберта, что «нет тебе равного, Рим, хотя ты почти и разрушен». Ради права называться наследниками древних государей германские короли шли на серьезные расходы и конфликты в Германии, пересекали Альпы и направлялись «к апостольским пределам» за императорской короной, пытались соединить германский дух с латинским, рядясь в тоги и ища поддержки понтификов. Те, в свою очередь, ревниво блюли свои прерогативы не только в управлении западной Церковью, но и на «землях святого Петра», том реальном государстве, которое они якобы получили в дар от самого Константина, впрочем, не признавая его святости вплоть до Нового времени. Некоторые из них даже брались прочищать заросшие акведуки и обустраивать новый христианский Рим (тот, что «властвует душами») между Ватиканом, где покоились головы апостолов Петра и Павла, и Латераном, где пребывала Римская курия. Для одних Рим стал воплощением небесного Иерусалима, для других – новым Вавилоном, для большинства – великим собранием святынь, сотен христианских реликвий. Немногие эстеты, вроде того же Магистра Григория, умели восхищаться памятниками языческой древности еще задолго до Возрождения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: