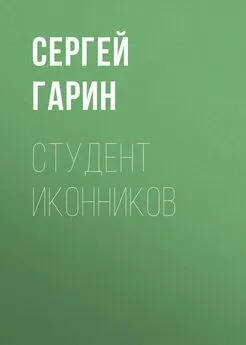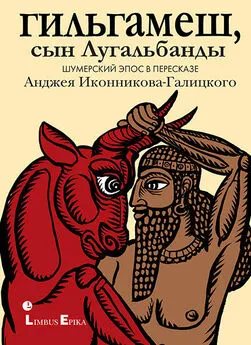Анджей Иконников-Галицкий - Сожженные революцией
- Название:Сожженные революцией
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛИМБУС ПРЕСС
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0739-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджей Иконников-Галицкий - Сожженные революцией краткое содержание
Сожженные революцией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из мемуарного очерка Александры Коллонтай «Годы юности»:
«На полу среди нар играли, лежали, спали или дрались и плакали маленькие дети под присмотром шестилетней няни. Я обратила внимание на маленького мальчика одного возраста с моим сыном, который лежал очень неподвижно. Когда я нагнулась, чтобы рассмотреть, что с ним, я с ужасом убедилась, что ребёнок мёртв. Маленький покойник среди живых, играющих детей… На мой вопрос, что это значит, шестилетняя няня ответила:
– С ними это бывает, что они помирают среди дня. В шесть часов тётя придёт и его уберёт» [180] Коллонтай А. М . Из моей жизни и работы: Воспоминания и дневники. М., 1974. С. 79.
.
«Одного возраста с моим сыном…»
«С ними это бывает…»
Этот момент стал в жизни Александры Коллонтай переломным. Все долгие поиски своего особенного пути, самоутверждения, жизненного служения сфокусировались в одном видении: маленький мертвец на грязном полу общей комнаты душного полутёмного барака. И вокруг него возятся, кричат, играют похожие на него маленькие живые мертвецы. Сложилось ясное сознание: так жить нельзя. Общество, которое устроено так, не имеет права на существование. Его надо переделать. Этой цели надо посвятить себя целиком.
Если бы Шурочка Коллонтай росла и воспитывалась в той среде, где горела бы хоть искорка живой веры в Бога, она, возможно, стала бы монахиней-подвижницей, сестрой милосердия, создательницей приютов и больниц – русским прообразом матери Терезы. Но в сформировавшем её интеллигентном дворянском мире вера в Бога считалась глупостью и мракобесием, а идолом, которому поклонялись, была идея прогресса. Оставался один путь: радикальное социальное переустройство мира на прогрессивной основе. Революция.
И Коллонтай уходит в революцию.
IV
Цена человека
В 1916 году в издательстве «Жизнь и знание», руководимом нашим знакомцем В. Д. Бонч-Бруевичем, вышла книга Александры Коллонтай «Общество и материнство». Обширное, профессионально выполненное социологическое исследование. Если внимательно прочитать его, станет отчасти понятно, почему в России революция приобрела такой катастрофический размах и характер.
Вот некоторые бесстрастно-объективные данные из этой книги.
Смертность среди детей до одного года в 1901–1908 годах в России составила 27,2 случая на 100 рождений. По этому показателю (как, впрочем, и по рождаемости) Россия занимала первое место в Европе, в разы превосходя весьма в те времена неблагополучные Англию, Францию, Германию, опережая даже экономически отсталые Румынию, Болгарию, Сербию. В этой чёрной статистике лидировали не имперские окраины, а центр. Самые высокие, поистине чудовищные цифры – в Калужской и Вятской губерниях. Здесь из каждой 1000 рождённых родители свезли на погосты соответственно 358 и 356 младенцев до года, а к пяти годам эта убыль составила 476 и 508 маленьких душ. Лишь немного отставали губернии Владимирская, Московская, Костромская. Тут повсеместно почти половина детей умирала, не научившись толком говорить… Причём ситуация была примерно одинакова в больших городах и в захолустных деревушках. В целом по России лишь один из трёх родившихся доживал до взрослых лет.
За этими цифрами – страшный в своей бессмысленности конвейер рождений и смертей. Рождаемость в России тех лет была очень высокой – около 50 рождений на 1000 человек в год. Это значит, что среднестатистическая русская женщина, рожая раз в три-четыре года, произвела на свет шесть – восемь детей. То есть каждый раз выносила, претерпела муки родов, кормила грудью, лелеяла, ночей не спала… И потом оплакала и похоронила одного… второго… третьего… четвёртого… При этом заметим: 90 процентов русских женщин – крестьянки, фабричные работницы, служанки – работали наравне с мужчинами. Никакого отпуска по беременности и родам им не полагалось, а уж об оплате нетрудоспособности нечего и говорить. Родила, за неделю оклемалась – и вперёд, трудиться: в поле, на кухню, за станок…
(Замечу от себя – в скобках. Моя крёстная, окончив после революции медицинский институт, в 1920-х годах работала несколько лет сельским врачом в одном из дальних уездов тогдашней Новгородской губернии. Она рассказывала: её пациентками были в основном женщины с тяжелейшими, глубоко запущенными женскими болезнями. Причина – постоянные роды без медицинской помощи и тяжёлый физический труд: пахать землю, колоть дрова, носить воду, ходить за скотиной… К сорока годам это были уже старухи.)
Не менее красочны и другие цифры, приводимые в книге Коллонтай. На одного врача в сельском округе России в среднем приходится 6500 человек (в Англии – 1700). На 4000 женщин – одна дипломированная акушерка. Даже в самых развитых губерниях – Московской и Петербургской – только 9–12 процентов рожениц пользуются услугами акушерок. В Новосильском уезде Тульской губернии из 8722 родов лишь 100 проходили при акушерской помощи; в Костромской губернии из 7150 – 321. Это неудивительно: расходы на санитарно-гигиенические нужды составили в один из годов: в Малоярославецком уезде – 8 рублей 50 копеек; в Обояньском уезде – 23 рубля, в Лохвицком уезде – 6 рублей.
Ничуть не лучше, а, скорее, хуже обстояло дело в промышленных городах. Сейчас нам очень любят рассказывать трогательные истории о том, как в дореволюционной России предприниматели заботились о своих рабочих – прямо как отцы родные. Строили им больницы, открывали школы… На заводе «Треугольник» в Петербурге (крупнейшем в России предприятии по производству резины) условия труда в 1908 году были таковы, что около половины работниц рождали мёртвых детей. А родившиеся живыми младенцы часто умирали от голода, потому что материнское молоко, насыщенное вредными веществами, вызывало у них систематическую рвоту. А эта фабрика ещё считалось хорошей, передовой.
Что всё это значит? Это значит, что женщина в дореволюционной России жила в условиях постоянной физической опасности и систематического унижения. Женщина – не человек, а материал и механизм. Причём недорогой, испортить не жалко. Но женщина – это мать, и Сын Божий, Христос, рождён женщиной. Если в России не ценилось материнство, то, значит, в России вообще человек, душа живая, не являлся ценностью. Две трети рождённых можно было выбросить на кладбищенскую свалку, как мусор. Да, здесь открывается великая историческая тайна о России. Человек не ценен. В этом и ни в чём другом причина огромных потерь русской армии в окопах Первой мировой войны, массовых убийств времён Гражданской войны, голодомора, сталинских репрессий и ни с чем не сравнимых жертв, понесённых в Великой Отечественной войне. В России людей не жалко. Бабы новых нарожают.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: