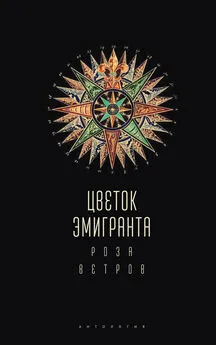Array Коллектив авторов - Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология
- Название:Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-2040-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология краткое содержание
Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Антология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Представляется, что многие аспекты этих споров остаются актуальными и сегодня. Но, может быть, главный «нестандартный» и важный сегодня аспект предложенного Ю. Л. подхода – это такая попытка взглянуть на способность индивида к выбору ( agency ) и к воздействию на окружающих – даже в Средние века! – которая предполагает не только включенность индивидуального в массовое и системное, но и их столкновение, конструируемое исследователем посредством различения и соположения микро- и макроперспектив в историческом исследовании. Может быть, способы перехода между этими перспективами – между индивидуальным, отдельным и общим, микро- и макро-, – всегда особенные и индивидуальные у каждого автора исторического исследования, включившегося в подобные поиски, и составляют в таком исследовании особенную эвристическую ценность.
Часть 1
Размышления о «Казусе», историческом знании и историках
Ю. Л. Бессмертный
Что за «Казус»?.. [110]
Читатель, взявший в руки этот альманах, вероятно, задумается над его названием. Что вкладывают в него редакторы и авторы? В классической латыни, к которой восходит слово «казус», оно могло обозначать и крах, и конец, и падение, и несчастье… Мы имеем в виду совсем иной смысл этого слова: случай, происшествие, событие. Именно такое словоупотребление казуса чаще всего можно встретить в современных европейских языках, включая и русский. Каждое из приведенных значений может в свою очередь быть истолковано по-разному: например, случай исключительный, неожиданный или же случай банальный, ординарный; случай как конфуз и случай как образец и т. п. Эта многозначность «казуса» найдет свое отражение в статьях нашего альманаха. Однако она не должна заслонить и то общее, что сближает самые разные «случаи», объединяя их все под одним понятием.
Это понятие подразумевает при разговоре о прошлом прежде всего нечто конкретное, поддающееся более или менее подробному описанию. Выбирая название для нашего альманаха, мы имели в виду среди прочего этот простейший смысл слова «казус». Нам хотелось ответить на легко ощутимую в среде читающей публики потребность увидеть общество прошлого возможно более конкретно. Такое видение естественно предполагает рассказ о самых различных «случаях», наполняющих человеческую жизнь. Выявить их в источниках, говорящих о прошлом, рассмотреть их во всех подробностях, дать читателю возможность почувствовать с их помощью аромат времени – такова ближайшая (хотя и не главная) задача всех наших авторов. И здесь первое объяснение названия нашего альманаха.
Надо ли, однако, говорить, что, если бы мы ограничились простым рассказом о различных казусах, нам грозила бы опасность превратить альманах в собрание исторических анекдотов, быть может забавных, но вряд ли провоцирующих думающего читателя на серьезные размышления. Такого рода рассказывающая история уже существовала в прошлом веке. Историк выступал в ней в роли всезнающего рассказчика, повествующего о днях былых с уверенностью очевидца. Исследователю тогда явно недоставало рефлексии над своеобразием исторических текстов (всегда содержащих некую интерпретацию прошлого авторами этих текстов) и собственной деятельностью. Фиаско этой истории относится еще к началу XX столетия, когда выяснилась ее ограниченность и недостаточность.
Изучая отдельные казусы, мы стремились учесть не только этот урок. Сознавая сугубо относительную достоверность любого сообщения о прошлом, мы будем интересоваться не только самими казусами, но и обстоятельствами, побудившими составителя исторического памятника избрать ту или иную версию случившегося. Выбор этой версии – тоже «казус», и притом заслуживающий не меньшего внимания, чем самое случившееся: как и любой поступок индивида, избранная автором источника позиция может пролить свет на роль в прошлом действий отдельно взятого человека, уяснить которую нам особенно бы хотелось. (И в этом еще одно объяснение нашего интереса к казусам.)
Выбор человеком конкретной линии своего поведения мог порождать казусы разного типа. В одних «случаях» люди осознанно (или неосознанно) действовали в согласии с принятыми в данной общественной среде правилами, ориентируясь на массовые представления о должном и запретном. Поступки таких людей – это казусы, воплощающие господствующие в обществе стереотипы. Встречались, однако, люди, для которых подобное конформное поведение почему-либо оказывалось невозможным. Одни из них осмеливались пренебрегать обычаями, нарушать законы; другие, наоборот, стремились реализовать в обыденной жизни то, что считалось недостижимым идеалом. Почти всегда тот, кто решался на нестандартный поступок, вступал на трудную тропу. Нередко ему грозило прямое или скрытое осуждение окружающих или даже активное противодействие с их стороны. Казусы этого рода представляют, на мой взгляд, особенный интерес. Кто чаще всего на них решался? Какие обстоятельства могли этому способствовать? Анализ таких казусов смыкается с рассмотрением проблемы, привлекающей интерес многих наших современников, – проблемы возможностей, которые существовали у индивида в разных обществах [111]. Что мог в те или иные периоды прошлого отдельно взятый человек? Могли ли его поступки изменять принятые в обществе поведенческие стереотипы? Доступно ли это для так называемых рядовых людей?..
Анализ подобных вопросов тесно смыкается также с изучением общественного резонанса уникальных и случайных событий. Неординарные поступки отдельных индивидов могли быть среди предпосылок их возникновения. Взрывая рутину, такие поступки именно из-за своей нестандартности привлекали к себе внимание современников и невольно побуждали их задумываться над укоренившейся традицией. Если неординарное поведение какого-либо индивида вызывало подражание других, сложившееся в данном обществе равновесие тенденций могло оказаться под угрозой: возникало «состояние неустойчивости», благоприятствовавшее возникновению тех или иных новых явлений, в том числе и в сфере поведенческих стереотипов [112]. Очевидно, что современный исследователь не может не интересоваться тем, какие условия в разные периоды прошлого способствовали такому резонансу уникальных казусов (включая в их число и нестандартные поступки отдельных индивидов). И в этом еще одно оправдание выбора проблематики нашего альманаха.
Эта проблематика в ряде аспектов отличается от традиционной для последних десятилетий. Едва ли не целое столетие в мировой исторической науке почти неуклонно нарастали тенденции ко все более углубленному анализу больших социальных структур, долговременных процессов, глобальных закономерностей. Историки искали способы формализации исторических данных, чтобы иметь возможность переходить от частных наблюдений ко все более общим. Агрегируя частные показания разных источников, они формировали «сериальные» данные, надеясь с их помощью уяснить пути развития целых классов, сословий, больших профессиональных (или производственных) групп. У многих исследователей сложилось убеждение, что подлинная история – это в первую очередь история больших масс, молчаливого большинства, история ведущих тенденций, пробивающих себе дорогу сквозь любые частные отклонения, история средних цифр, «среднего человека» [113].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/1114841/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi.webp)