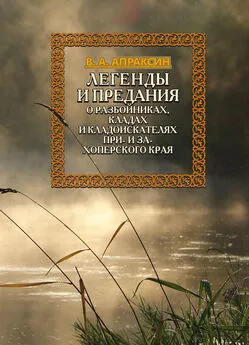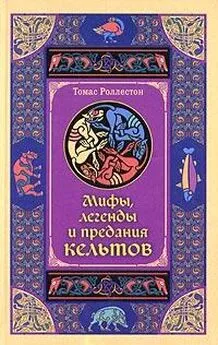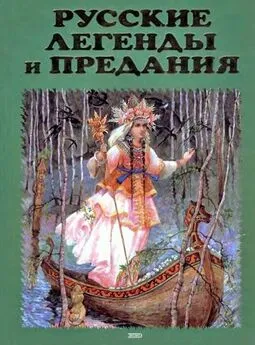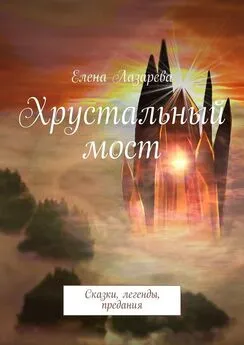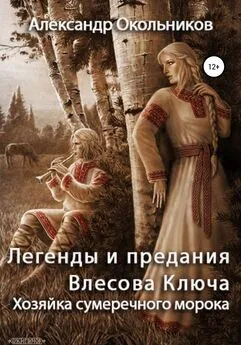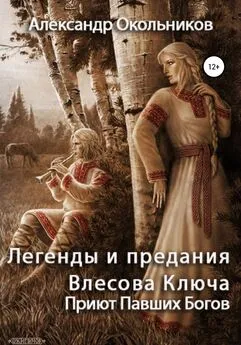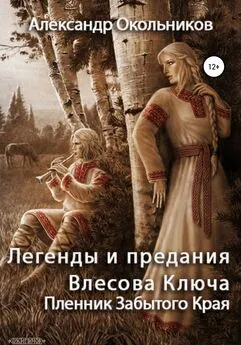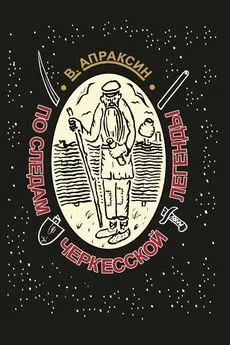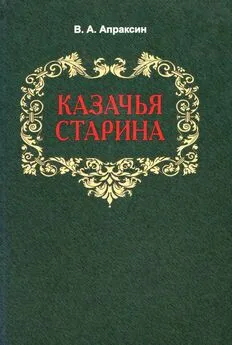Вениамин Апраксин - Легенды и предания о разбойниках, кладах и кладоискателях При- и Захоперского края
- Название:Легенды и предания о разбойниках, кладах и кладоискателях При- и Захоперского края
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- Город:Волгоград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Апраксин - Легенды и предания о разбойниках, кладах и кладоискателях При- и Захоперского края краткое содержание
Автор предлагает познакомиться с легендами про лихих людей, мифические клады, татарские, черкесские и иные сокровища, раскопки кладоискателей и загадочное свечение, про все то, что вызывает мистический трепет, потаенное любопытство, про все то, что в изобилии сохранила народная память и древняя земля При- и Захоперского края.
Легенды и предания о разбойниках, кладах и кладоискателях При- и Захоперского края - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В настоящее время на территории Кумылженского и Алексеевского районов всякая память о разбойных нападениях турок, легенды, слова, пословицы, географические названия, связанные с ними, а также намеки на клады (если они были) начисто выветрились из памяти народа. Единственное, что мне удалось записать, это сведения уроженца ст-цы Федосеевской, а потом жителя х. Попов – Виктора Павловича Усенкова, 193 0 г. р.: «Федосеевские жители братья Симоновы – Николай Ионович и Пимен Ионович – ведут свой род от турок». И еще. По сведениям уроженца х. Сарычи, а также жителя х. Попов Василия Евгеньевича Макарова, 1966 г. р.: «У моего деда – Макарова Иосифа Васильевича самым крепким ругательством были слова: „Ух ты, турок!"».
Кроме того, заслуживает внимания тот факт, что всякое представление о тяжелой работе у нас, в казачестве, ассоциируется со словом «каторга». Но мало кто знает, что на самом деле каторга – это турецкое судно XVI–XVII вв., где работали гребцами прикованные пленные.
Кроме того, ныне мало кому известно, что распространенное слово «курган» тоже турецкое и означает «крепость».
И наконец, упоминание о турках я нашел в фольклоре, точнее – в песенном жанре: три старинные казачьи песни, записанные мною на территории Захоперья, я привожу дословно.
Под местечком было Журжею [1] Турецкая крепость Журжа на Дунае взята русскими войсками под командованием генерал-поручика Штофельна 4 февраля 1770 г.
Ярославской было земле,
Там стояла Шат – высокая гора,
Еще дюжая гора.
Как под этой горою
Долинушка широкая,
Как на этой на долинке
Березочка стояла,
Как под этой под березкой
Могилушка глубокая,
Как во этой во могилке
Там сосновый гроб стоял,
Как во этом во гробке
Тело белое лежало.
Тело белое, нетленное
Дундукова казака.
Он не убит, не зарезан,
А свинцовой пулей скрозь прострелен,
Его верная берданка
При боку лежит,
Его добрый конь
В головах стоит.
«Вставай, вставай, мой хозяин,
Из турецкой земли,
Все наши товарищи
На Дон тихий поушли,
Отцу-матери родным Печаль-горе понесли».
Просветил месяц
Долго, с вечера до полуночи,
С полуночи до белой зари,
Со белой зари до красна солнышка.
Не дает мне, младу,
Коня оседлать
И из гиена убежать,
Из туретчины.
Погиб, погиб аул Кавказа,
Погибли два брата родных,
Мой лук тугой,
Мой конь-орел крылатый,
Один, один остался я,
Один остался я на древе,
Как будто серый воробей.
Там хищный сокол летал над полями,
Как будто стая сизых голубей,
Не раз, не два в боях случалось,
Стрелял в меня донец,
Колол копьем –
Древко его ломалось,
Не раз пущал он свой злой свинец.
Скажи, султан, где панцирь делся,
Его ведь снял с меня донец,
Да ничей булат его не брал,
Насечка его была золотая,
А булат блестел, как в море волна.
Мне кажется, приведенные старинные казачьи песни никакого отношения к разбойным турецким нападениям на наши края не имеют и возникли во времена русско-турецких баталий, в которых всегда участвовали и казаки.
После некоторых раздумий я решил включить в эту главу предание, которое поведал мне уроженец х. Блинков, а ныне житель х. Попов Александр Иванович Ульянов, 1936 г. р.
«Такое предание я слышал от своего дяди Ульянова Антона Федоровича, примерно 1914 г. р., когда он жил на восточной окраине х. Попов. Дядя слышал его от своего прапрадеда, а тот – от своего прапрадеда, так что это было давно, лет 200–300 назад, когда казаки несли дозоры, заслоны на южных границах Донской области. Ко всему прочему казаки тогда занимались разбоем: лошадей, скот угоняли у кавказцев (а они – у нас), жен воровали. Того первого прапрадеда звали вроде бы Федор Ульянов, родом он был из нынешней Ольховки, жил примерно на поместье Черкесова Ивана Тихоновича.
Так вот, когда этот прапрадед ехал с нарядом казаков по границе, увидел турчанку с кувшином на голове. Федор схватил ее, посадил с собой на коня и привез в свою Ольховку. Турчанка была очень красивая. Русский язык она не знала. Все хуторяне учили ее разговаривать. Она быстро все схватывала. Федор взял ее в жены, у них пошли дети. От того брака и пошел весь род Ульяновых. Их много потом разошлось по хуторам Кузнецы, Попов, Ольховка. Все были трудолюбивые, поэтому и зажиточно жили».
Глава 10
На горизонте появляются калмыки
В моем повествовании нельзя не рассказать еще об одной народности позднего средневековья – калмыках. Что это был за народ, откуда он взялся на территории Всевеликого Войска Донского?
Заглянем в «Казачий словарь-справочник» (Сан-Ансельмо, Калифорния, США, 1968. Т. 2. С. 50–51): «Калмыки – народ монгольского племени, буддисты; до недавнего времени кочевые скотоводы; из них несколько десятков тысяч проживало в станицах Сальского округа; занимались хлебопашеством и скотоводством, выращивая ценные породы степной лошади и красного калмыцкого скота. Калмыки пришли из Азии и распространились по свободным северокаспийским равнинам в 1632 г. Через полвека они находились уже в подданстве русского царя. Во время Булавина калмыки были противниками восставших казаков и помогали «усмирению» мятежного Дона. От 1884 г. донские и астраханские калмыки уравнены с казаками в правах и обязанностях и подчинены войсковым правлениям. Они служили в полках совместно с казаками. В годы борьбы за Казачий Присуд многие из них пополнили партизанские отряды походного атамана П. X. Попова и потом вместе с казаками бились против красных, посылая своих всадников в полки Дзюнгарский и 3-й Калмыцкий. В 1920 г., отступая всем народом к Черному морю, они много пострадали от зверств победителей-большевиков. Часть из них оказалась в эмиграции, где они создали очаги калмыцкой культуры и построили на окраине г. Белграда первый в Европе буддийский храм.
Во время Второй мировой войны калмыки снова выступали отдельным корпусом против советской власти. После поражения Германии их выдали вместе с казаками Сталину: оставшиеся на родине подверглись новым репрессиям, а уцелевшие от выдачи в своем большинстве приняты в США, где живут обособленной религиозной и культурной жизнью».
Из 1 тома того же «Казачьего словаря-справочника» можно добавить следующее фрагменты: «В 1729 г. 18 июля донские калмыки переданы в ведение донского атамана и Войскового правления». (С. 204.)
«1799 г. Большая Дербетовская Калмыцкая Орда подчинена Донскому атаману». (С. 206.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: