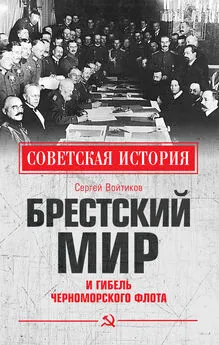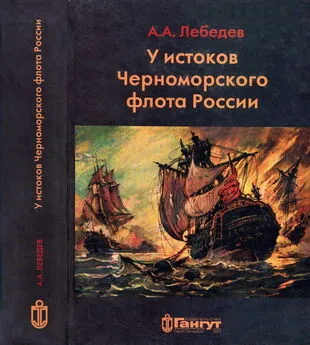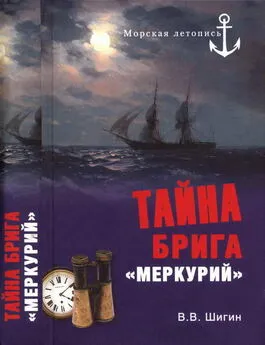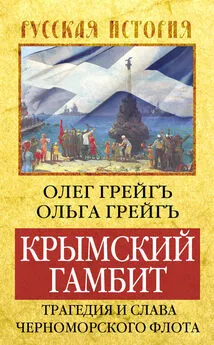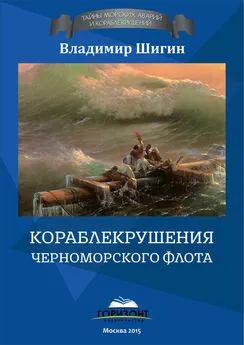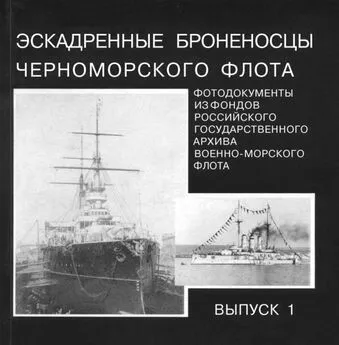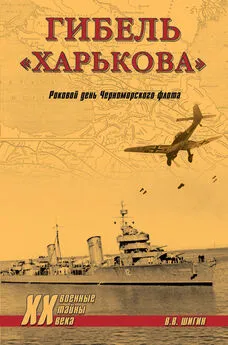Сергей Войтиков - Брестский мир и гибель Черноморского флота
- Название:Брестский мир и гибель Черноморского флота
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8246-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Войтиков - Брестский мир и гибель Черноморского флота краткое содержание
Книга будет интересна всем любителям военной и политической истории нашей страны.
Брестский мир и гибель Черноморского флота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Судя по заявлениям А. В. Колчака на допросе в 1920 г., положение начало меняться в апреле 1917 г. – вместе с приездом на Черноморский флот депутаций с Балтийского флота [147]. Адмирал Колчак констатировал, что на Черноморский флот «хлынула масса самых подозрительных и неопределенных типов, началось ведение совершенно определенной пропаганды, направленной к развалу флота, начали обвинять офицеров в империализме, в обслуживании интересов буржуазии» [148]. О том же написал в своих воспоминаниях морской офицер Н. А. Монастырев. По его свидетельству, «на базах Черноморского флота появились подстрекатели и убийцы, прибывшие с Балтики (революционные матросы – большевистские агитаторы-пораженцы . – С.В. ). Они яростно и открыто начали агитировать против адмирала Колчака и вообще против офицеров как таковых. “Почему вы еще терпите офицеров – этих врагов народа, которые ради собственной выгоды стремятся затянуть братоубийственную войну? Они всегда были опорой трона, а потому являются злейшими врагами революции! Не верьте им! Посмотрите, чего мы достигли на Балтике, перерезав этих гадов! Хватит войны! Немцы – это наши друзья, и мы хотим жить с ними в мире. Да здравствует всеобщая свобода! Мы, большевики, укажем вам правильный [курс]!” Результаты подобной агитации не замедлили сказаться. На офицеров действительно стали смотреть как на врагов государства» [149]. А. И. Верховский, воспоминания которого носят неизгладимый отпечаток самоцензуры и цензуры, ограничился лишенной подробностей констатацией того факта, что контр-адмирал «был бессилен, окруженный только своими офицерами» [150]. Впрочем, положение А. В. Колчака несколько скрашивало то обстоятельство, что «массовую базу» ему создавали эсеры: «Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции» [151].
А. В. Колчак свидетельствовал в 1920 г.: «…рабочие Черноморского флота стояли, если так можно выразиться, выше команд в смысле дисциплины, порядка и организованности. Я прямо докладывал правительству и приписывал улаживание конфликтов спокойствию, внесенному со стороны рабочих и их органов. Когда под влиянием пропаганды Совет матросских депутатов поднимал вопрос о том, что надо требовать ликвидации войны и так далее, рабочие приходили […] и вносили известное успокоение своим трезвым, спокойным отношениям ко всем событиям. В половине апреля мне стало ясно, что если дело пойдет таким образом, то, несомненно, оно кончится тем же, чем и в Балтийском флоте, т. е. полным развалом и невозможностью дальше продолжать войну» [152].
С 15 апреля по 21 апреля командующий Черноморским флотом находился в Петрограде, принял участие во встречах с военными и политическими деятелями [153]. Перед уходом из Севастополя А. В. Колчак «собрал все команды, сообщил им о своем отъезде и спросил их, имеются ли у них какие-либо настоятельные нужды и требования, чтобы я мог передать их правительству. Заявлений никаких не было сделано…» [154]. В центре революционных событий, а также в Пскове, где А. В. Колчак принял участие в совещании высшего командного состава (присутствовали генерал М. В. Алексеев, сдавший царя и, как следствие, подставивший нашу армию, которая в условиях кризиса власти стала разваливаться буквально на глазах, и генерал Н. В. Рузский, который, «командуя армией в Галиции на Юго-Западном фронте, проделал штуку, которая очень характерна вообще для наших больших военных: во-первых, забыл об интересах русской армии и очень [хорошо] помнил об интересах генерала Рузского; во-вторых, не исполнил отданного ему приказания, сознательно его нарушив» [155], и другие), у адмирала возникло стойкое убеждение о скорой государственной катастрофе [156]. По более позднему (1920) признанию А. В. Колчака, в армии царил «полный развал. Никаких мер, чтобы остановить этот развал и выйти из затруднительного положения, в сущности, никто не мог предложить» [157]. А. В. Колчак убедился в том, что Временное правительство «совершенно бессильно» и «единственный орган, который выдвигается и вполне определился – Совет рабочих и солдатских депутатов – ведет совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении вооруженной силы открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и так далее. Правительство бороться с этим совершенно бессильно, хотя бы даже оно располагало силами, т. к. оно принципиально применять эту силу не хочет, а рассчитывает на возможность чисто морального воздействия и держится на чисто моральном воздействии (то есть ни на что в действительности не опирается . – С.В. )» [158]. Это всё притом, что в указанное время в распоряжении Временного правительства состояло «достаточно дисциплинированных сил, чтобы подавить [пораженцев]» [159]в случае отдания соответствующего приказа.
Чуть позднее А. В. Колчак написал в письме А. В. Тимиревой: «То, что я пережил в Петрограде, особенно в дни 20 и 21 апреля, когда я уехал, было достаточно, чтобы прийти в отчаяние, но мне несвойственно такое состояние, хотя во время 2½-дневного пребывания в своем салон-вагоне я мог предаться отчаянию без какого-либо влияние на дело службы и командование флотом. Кажется, никогда я не совершал такого отвратительного перехода, как эти 2½ суток» [160]. В письме всего не напишешь. Именно в эти дни, в дороге или чуть позднее, уже в Севастополе, А. В. Колчак осознал необходимость самому попытаться вытянуть страну из бездны. Вероятно, тогда он и написал свой доклад, а фактически программную речь, с которой хотел обратиться сперва к Черноморскому флоту, а затем и ко всей России [161]. На допросе в 1920 г. адмирал показал: «…я собрал все свободные команды в нескольких местах и, как я это делал раньше, совершенно откровенно высказал все то, что узнал в Петрограде, обрисовал им положение вещей, указал на бессилие правительства, на то, что фронт у нас в последние дни разваливается совершенно; удастся ли его восстановить – неизвестно, и что оказать сопротивление неприятелю невозможно. Я главным образом базировался на следующем положении: для меня как для человека военного и все время занятого исключительно своими военными делами казалось необходимым рассматривать происходящую у нас революцию с точки зрения войны. Для меня казалось совершенно ясным, что в такой громадной войне, в какой мы участвуем, проигрыш этой войны будет проигрышем и революции, и всего того, что связано с понятием нашей родины – России. Я считал, что проигрыш обречет нас на невероятную вековую зависимость от Германии, которая к славянству относится так, что ожидать хорошего от такой зависимости, конечно, не приходилось» [162].
25 апреля 1917 г. в севастопольском цирке на делегатском собрании солдат и матросов флота и гарнизона А. В. Колчак выступил с докладом «Положение нашей вооруженной силы и взаимоотношения с союзниками», в котором констатировал: армия накануне распада, главная причина этого – германская пропаганда, которая вела к братаниям на фронтах и дезертирству [163]. Доклад командующего флотом произвел на присутствующих сильное впечатление. Под его влиянием ЦВИК решил послать на фронт и на Балтийский флот делегацию во главе с матросом Ф. А. Баткиным [164]для агитации за продолжение войны. Чуть позднее, 30 мая, А. В. Колчак отписал А. В. Тимиревой: «Политическая деятельность, которой я занялся, чтобы отвлечь себя, создала два крупных эпизода: вернувшись из Петрограда, я решил заговорить открыто, и мне пришлось первому, ранее чем высказались правительство и командование, громко сказать о разрушении нашей вооруженной силы и грозных перспективах, вытекающих из этого положения. Мне удалось поднять дух во флоте, и результатом явилась черноморская делегация, которую правительство и общество оценили как акт государственного значения. Против меня повелась кампания – я не колеблясь принял ее и при первом же столкновении поставил на карту всё – и выиграл: правительство, высшее командование, Совет р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] и почти все политические круги стали на мою сторону» [165]. Здесь все же следует уточнить, что второй «эпизод» не стал таким уж «крупным».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: