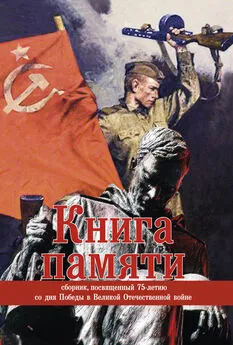Коллектив авторов - Вершина Великой революции. К 100-летию Октября
- Название:Вершина Великой революции. К 100-летию Октября
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906947-50-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Вершина Великой революции. К 100-летию Октября краткое содержание
Особенность книги – знаковые статьи и отдельные отрывки из работ известных современников революции: Г. Плеханова, В. Ленина, Ю. Мартова, Л. Троцкого, А. Грамши, Р. Люксембург, Н. Бухарина, М. Рютина и др.
Вершина Великой революции. К 100-летию Октября - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В условиях революции, когда установленный миропорядок рушится на глазах у звереющего от этого хама, все это вкупе вызывает у него неспособность к самоориентации и провоцирует стремление хама одновременно и к хаотически-разрушительным действиям (бандитизму и уголовщине), и к власти твердой руки. Именно такого обывателя-мещанина, «взбесившегося» от неопределенности и противоречий революций, от необходимости (но неспособности) самостоятельно, сознательно, со знанием дела принимать решения и действовать, мы можем назвать «хамом».
И мы готовы согласиться с российской интеллигенцией в том, что этот хам – величайший враг культуры и общества, и что революция (среди прочего) временно оставляет этого хама вне социальной узды. Но мы категорически не согласны с теми, кто видит в революционных массах только и прежде всего хамство. И дело здесь не только в том, что революция тем и отличается от бунта, что в ней лидирует сознательный социально-творческий (то есть культурный и самоорганизованный) субъект, но и в том, что освобожденная от порабощающей личность опеки (причем не только подкормки, но и идейных помочей) правящих кругов «элитарная» интеллигенция точно так же «хамеет» (что, впрочем, отнюдь не удивительно: по своему социальному статусу она является верхним слоем конформистов, занятых в сфере духовного производства, например мелких буржуа в условиях позднего капитализма).
Она «бесится» от необходимости самостоятельно решать все свои проблемы (от идейно-нравственной ориентации в незнакомом для нее мире, где нет «верхов» и «низов», до необходимости зарабатывать на хлеб) и угрозы потери своих материальных и духовных (как же, мы же «духовные отцы нации»!) привилегий. Вот почему она превращается в «хама» ничуть не в меньшей степени, чем «некультурный» обыватель. И эти два хама, вначале испугавшись и возненавидев друг друга («бей тех, кто в шляпе!»; «быдло – на виселицу!»), очень быстро находят друг друга в общей жажде скорейшего установления власти твердой руки. При этом «элитные» интеллигенты подчас не просто хамеют, но озверевают в своем призыве к уничтожению революции, а заодно и культуры (достаточно вспомнить лютую ненависть многих «интеллигентов» к Блоку, Маяковскому и многим другим деятелям культуры, доходившую до призывов их прямого уничтожения, поддержку со стороны ряда эмигрантов-«интеллигентов» немецкого фашизма, уничтожавшего целые народы, не говоря уже о памятниках культуры, – перечень легко продолжить… [24] Весьма интересны в этой связи заметки М. И. Воейкова о социально-политических воззрениях В. Розанова и И. Бунина (см.: Воейков М. И. О марксизме, большевизме, национализме и гуманизме (Заметки на полях прочитанных книг) // Альтернативы. 2001. № 2. С. 227–230).
).
В этом смысле мы можем с полной ответственностью сказать, что «хам» (в том двояком смысле, который был раскрыт выше) есть действительно главная опасность всякой революции и культуры. Именно поэтому двойственность масс (в том числе интеллигенции) в революции ( субъект социального творчества vs. «хам») есть глубочайшее и опаснейшее противоречие, разрешение которого возможно в той мере, в какой революция выдавливает из трудящихся (в том числе, намеренно повторим, – интеллигенции) не просто раба, но и хама, помогая им осознано трансформировать самих себя в творцов нового общества и культуры, условием чего, как мы уже писали выше, является интеграция сил революции и культуры.
Будучи особым миром социального творчества, временным (если мы говорим о социальных революциях в рамках «царства необходимости») торжеством социальной свободы, революция рождает особый тип социального времени и пространства. Мощные выбросы энергии революционного творчества массового субъекта спрессовывают социальное пространство и время, существенно меняя их конфигурацию.
В течение нескольких дней или месяцев в революционные периоды происходит столько исторических событий, сколько не случается за десятилетия застоя или стагнации. Время революции как время непосредственного социального творчества несется необычайно быстро, требуя от участников этого процесса столь же быстрой и точной, самостоятельной, творческой (и в этом смысле – обязательно талантливой) реакции (выше мы особо отметили, что в условиях революций человеческие таланты оказываются востребованы в массовых масштабах, ибо истории, которая так же, как и природа, не терпит пустоты, в условиях слома старой системы требуются – и в массовых масштабах – творцы новых общественных форм; в этом величие и опасность этих эпох).
Не менее радикально изменяется и социальное пространство: революция спрессовывает субъектов социального творчества в единый интернациональный мир, где рабочие и крестьяне не только крупнейших стран, но и деревень в глухих районах других континентов (и это, заметим, в эпохи, крайне далекие от информационной эры) не просто узнают о революции (в Петрограде или Париже), но и готовы своими действиями поддержать товарищей по борьбе. В этих условиях «центр» и «периферия» существенно меняют свою конфигурацию; зачастую вообще преодолевается периферийность и на маленьких окраинах «цивилизованного мира» (таких, например, как Куба в конце пятидесятых годов XX века) происходят события, потрясающие весь мир. В результате спрессованное в пространстве и во времени социальное творчество миллионов людей (до и после революции, в «обычные» эпохи, рассеянное по миру и истории) вызывает к жизни огромные общественные силы, порождая чрезвычайную насыщенность этих кратких эпох взаимосвязанными событиями и изменениями.
В условиях социальных революций историческое время несется необычайно быстро, а пространство спрессовывается, сокращая социальные дистанции между людьми, классами и государствами, ибо здесь действуют законы непосредственного социального творчества, когда для созидания новых общественных отношений используется энергия [1] широких масс, а не узкого слоя элиты, и [2] эта энергия направляется на творение истории прямо и непосредственно (вне барьеров отчуждения). Именно поэтому революции становятся «локомотивами истории». Именно социальные революции оказываются пространством и временем максимального (в рамках «царства необходимости») продвижения человечества по пути социального освобождения. Революции, подчеркнем это вновь, оказываются теми уникальными периодами предыстории, когда люди сами, непосредственно, на глазах у ошеломленных обывателей создают новые общественные отношения и оформляющие их институты: новые отношения собственности и распределения, новые формы организации труда и политической жизни. В течение дней и даже часов создаются общественные феномены, навечно остающиеся в истории, – Декларация прав человека, Советы рабочих и крестьянских депутатов и тысячи других…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
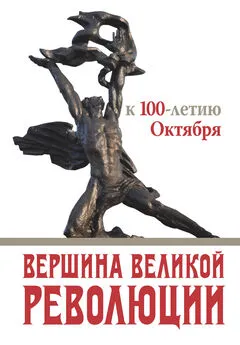
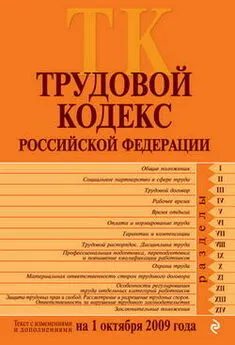
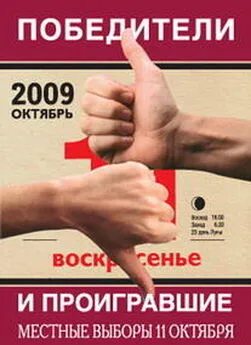
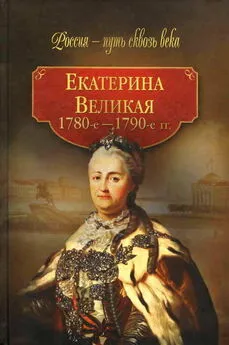
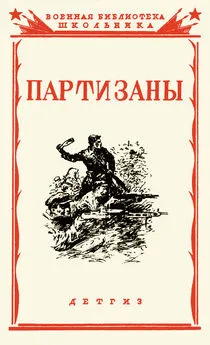
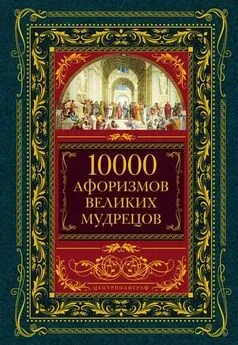
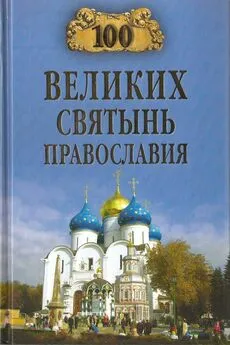

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)