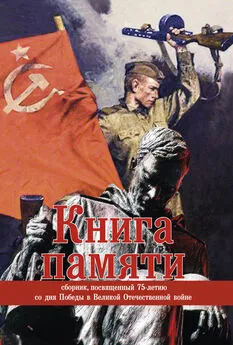Коллектив авторов - Вершина Великой революции. К 100-летию Октября
- Название:Вершина Великой революции. К 100-летию Октября
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906947-50-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Вершина Великой революции. К 100-летию Октября краткое содержание
Особенность книги – знаковые статьи и отдельные отрывки из работ известных современников революции: Г. Плеханова, В. Ленина, Ю. Мартова, Л. Троцкого, А. Грамши, Р. Люксембург, Н. Бухарина, М. Рютина и др.
Вершина Великой революции. К 100-летию Октября - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так же понимал суть дела Ф. Энгельс: он, как известно, назвал Марксовы «Тезисы о Фейербахе» «гениальным зародышем нового мировоззрения». И в этом «зародыше», в этой генетической «клеточке» марксизма особенно зримо, особенно ясно видно это неразрывное единство, эта тождественность диалектического материализма и материалистического понимания истории. Именно это доказывал и доказал Плеханов, итоговым тезисом которого было: «Диалектический материализм есть высшее развитие материалистического понимания истории».
Глубоко осознанное органическое единство, тождественность диалектики и материалистического понимания истории позволили Плеханову обосновать еще одно важное положение, которое, к слову сказать, активно оспаривалось (и, увы, иногда и сегодня оспаривается) иными «марксистами».
В письме Плеханову от 6 февраля 1901 года К. Каутский написал «историческую» фразу: «…я думаю, что можно быть в некотором смысле неокантианцем и признавать историческую и экономическую доктрину марксизма». О том, что это не случайно оброненная фраза, свидетельствуют и многие другие высказывания Каутского, например такое: «Я понимаю под марксизмом не философию, а эмпирическую науку, особое понимание общества». Другой теоретик II Интернационала – В. Адлер тоже «допускает возможность замены материалистической основы» научного социализма кантовской.
Такой ход мыслей отнюдь не стал далекой историей. И сегодня в «левых» кругах нередки утверждения о независимости социалистической стратегии и политической борьбы «левых» партий от той или другой философской основы и о том, что поэтому-де политическая программа борьбы такой партии может быть вполне сочетаема с философией какого-нибудь позитивизма, идеализма или даже католицизма. Плеханов же считал, что не может, что «все стороны миросозерцания Маркса самым тесным образом связаны между собой… вследствие этого нельзя по произволу удалить одну из них и заменить ее совокупностью взглядов, не менее произвольно вырванных из совершенно другого миросозерцания» [93] Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. III. М., 1957. С. 198.
. Он это доказывал и демонстрировал постоянно – и в общетеоретической форме, и на весьма впечатляющих конкретных примерах.
А. Богданов, к примеру, желал быть последовательным революционным борцом за дело трудящихся, сторонником Марксовой теории социалистической революции; он воевал с реформистами и в эпоху первой русской революции входил в большевистский ЦК. Но Богданову, удрученному поражением революции и не понявшему действительных причин этого поражения, показалось, что наилучшей основой марксистской теории революции и социалистической революционной деятельности может быть не диалектический материализм, а одна из разновидностей позитивизма – махизм; Богданову показалось, что диалектический материализм с его признанием объективной истины и объективной законосообразности исторического процесса есть одна из форм оправдания действительности, ведущая в конечном счете к оппортунизму и реформизму. Отрицающий же объективные законы махизм, с его точки зрения, раскрепощает революционера, открывает перед ним простор для «творческой», «решительной», не сдерживаемой никакими рамками преобразовательной деятельности.
Убийственным сарказмом встретил эту богдановскую риторику Плеханов. Он указал, что «бурная революционность», опирающаяся на субъективистскую философию Маха и вследствие этого не умеющая сообразовываться с объективной логикой исторического развития, с объективными интересами и возможностями масс, есть не социалистическая революционность.
Подлинно социалистическая революционная деятельность – это самодеятельность народных масс, богдановско-махистская же «революция» – это деятельность «социальных организаторов», этих «сверхчеловеков», стоящих над бессловесными и послушными стадами народных масс и милостиво повелевающих ими. Вот почему Плеханов имел полное право заявить: «Оружие, выкованное вами, г. Богданов, совсем не годится для передовых людей: оно обеспечивает им не победу, а поражение» [94] Плеханов Г. В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. III. М., 1957. С. 300.
.
Столь же печальный результат, как показал Плеханов, дала и попытка так называемых богостроителей «усовершенствовать» марксизм путем замены материализма своеобразной разновидностью религии. Она устраняла традиционного бога и в то же время стремилась учитывать религиозные традиции масс, организующую роль веры. «…Бог есть человечество в высшей потенции», – восторженно писали богостроители. На «человечество», на этого нового бога должен молиться, должен работать каждый человек. Конечно, субъективно «богостроители» хотели хорошего, хотели ускорить процесс движения общества к социализму. Но Плеханов выявил объективный смысл такой замены материализма «религией». Холодной и бестрепетной рукой он стер всю позолоту концепции «богостроительства», разорвал всю ее многоцветную словесную упаковку и обнажил ее весьма неприглядную суть: обожествленное «человечество» оторвано от «я», от отдельного человека, индивида; в этой концепции отдельный человек остается беспомощным, зависимым существом, обязанным служить новому идолу – некоему абстрактному «человечеству» (которое, впрочем, не преминет предстать в образе каких-нибудь своих конкретных представителей, своих жрецов, этих новых наместников «нового бога» на грешной земле). Принижение роли сознательного компонента народных движений, выдвижение на первый план моментов иррациональных – экзальтированности, веры, коллективной ритуальности – не могут вести ни к чему иному, как к «казарменному коммунизму», который есть всего лишь «вывернутая наизнанку буржуазность». И это, настаивает Плеханов, есть закономерный итог попыток сочетать социалистическую теорию К. Маркса с какой-либо иной, нематериалистической философией.
Струве и Бернштейн пытались проделать другую, нежели Богданов и его сторонники, противоположную операцию. Они начали с попытки сохранить фундаментальные положения материалистического понимания природы и общества, отбросив научный социализм, заменив марксистскую теорию революции теорией социальных реформ. А кончилось это, как показал Плеханов, тем, что Струве, много говоривший об объективности социальных законов и ведущей роли экономики, но не доводивший своей концепции до признания революционной исторической миссии угнетенного класса и необходимости в той или другой форме социалистической революции, низвел свой объективизм до исторического фатализма и примирения с буржуазно-монархической действительностью. Бернштейнианцы, выдвинувшие стратегию социальных реформ вместо революции, эволюционировали от материализма к кантианству (к тому же в его самой примитивной и вульгарной версии). Их печально знаменитый лозунг «движение – все, цель – ничто», в котором абсолютизируется медленное, постепенное реформистское движение и отбрасывается – как нечто практически недостижимое – «цель», то есть социализм, – этот лозунг есть по сути перевод на политический язык центральной кантовской идеи об ограниченности человеческого познания миром «явлений», миром «опыта» и невозможности выхода за пределы этого мира в недостижимый, недоступный и непознаваемый мир «вещей в себе».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
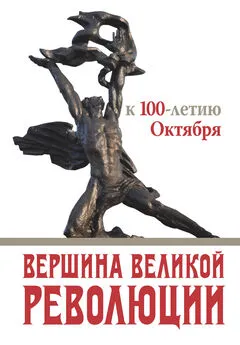
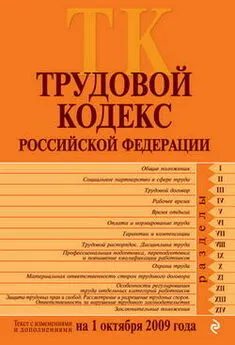
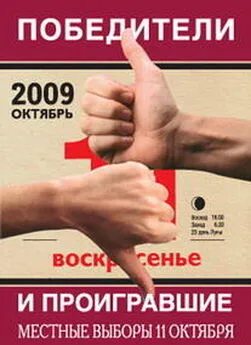
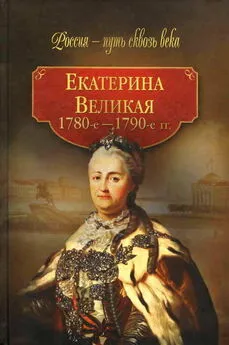
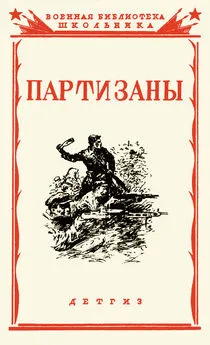
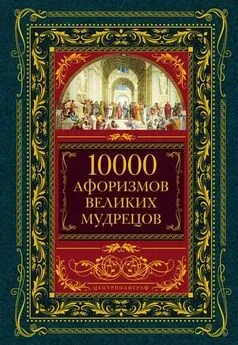
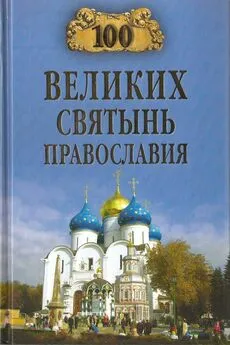

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)