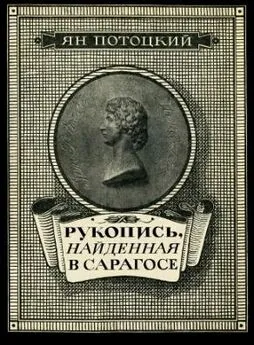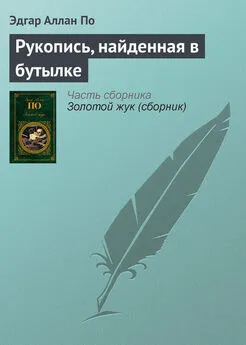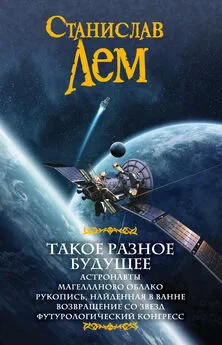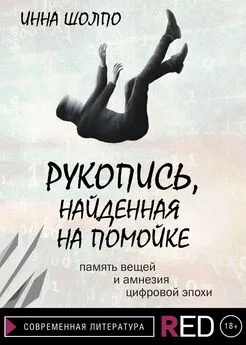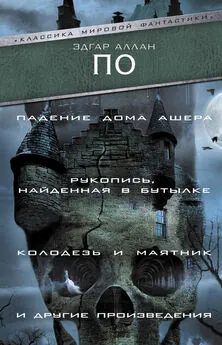Ян Потоцкий - Рукопись, найденная в Сарагосе
- Название:Рукопись, найденная в Сарагосе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ян Потоцкий - Рукопись, найденная в Сарагосе краткое содержание
JAN POTOCKI Rękopis znaleziony w Saragossie
При жизни Яна Потоцкого (1761–1815) из его романа публиковались только обширные фрагменты на французском языке (1804, 1813–1814), на котором был написан роман.
В 1847 г. Карл Эдмунд Хоецкий (псевдоним — Шарль Эдмон), располагавший французскими рукописями Потоцкого, завершил перевод всего романа на польский язык и опубликовал его в Лейпциге. Французский оригинал всей книги утрачен; в Краковском воеводском архиве на Вавеле сохранился лишь чистовой автограф 31–40 “дней”. Он был использован Лешеком Кукульским, подготовившим польское издание с учетом многочисленных источников, в том числе первых французских публикаций. Таким образом, издание Л. Кукульского, положенное в основу русского перевода, дает заведомо контаминированный текст.
Рукопись, найденная в Сарагосе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
1807 и cл. — Потоцкий безуспешно старается добиться в Варшаве признания своих историко-археологических концепций.
1810 — В Петербурге публикуется «Археологический атлас Европейской России, сочиненный графом Иваном Потоцким».
1810 (1809?) — Фридрих Аделунг публикует в Лейпциге первый том «Рукописи».
1813 — В Париже публикуется часть «Рукописи» (дни 12–56) в четырех томах под названием «Авадоро».
1814 — В Париже выходят из печати «10 дней из жизни Альфонса ван Вордена». В лицейской гимназии в Кременце печатаются «Основы хронологии четырнадцати веков, предшествовавших «Олимпиаде народов».
1815 — В Кременце печатается вторая часть «Основ».
1814–1815 — Венский конгресс и крушение надежд на восстановление государственной самостоятельности Польши. 1815
2 декабря (20 ноября) — Самоубийство Яна Потоцкого в Уладовке (близ Бердичева).
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ
И. Ф. БЭЛЗА
В известном отрывке, относящемся к последним месяцам жизни Пушкина, появляется герой «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого:
Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайтесь меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека.
Останьтесь здесь: готов вам ужин;
В камине разложен огонь;
Постеля есть — покой вам нужен,
А к стойлу тянется ваш конь».
— «Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь, —
Тот отвечает, — неприлично
Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин, — ни черт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я».
И дон Альфонс коню дал шпоры
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.
Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо, и потом
Понесся резво, легким скоком,
С своим бесстрашным седоком.
В комментарии к данному стихотворению говорится: «Начало незавершенного замысла. Некоторые детали сближают данное стихотворение с эпизодами из французского романа Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагоссе»… [1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, том третий. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 524.
Возникает, однако, вопрос, действительно ли можно говорить о «незавершенном замысле», т. е., действительно ли думал Пушкин о поэтической «транскрипции» произведения Потоцкого, немыслимо трудной из-за композиционной сложности «Рукописи». Не будет ли правильнее предположить, что здесь, так же, как и в «отрывке» «Сто лет минуло, как тевтон», обычно квалифицируемом как начало перевода «Конрада Валленрода», [2] Такая трактовка «отрывка» восходит, как известно, к прижизненной публикации 1829 г.
Пушкин наметил принципиально новый жанр краткого поэтического отображения крупного многообразного произведения? Примером плодотворного развития этого жанра может служить едва ли не лучшее стихотворение Т. Г. Шевченко «3 передсвiта до вечора», которое вряд ли можно рассматривать как поэтический перевод отрывка из «Слова о полку Игореве», тем более, что в «Слове» адекватного отрывка нет, так же точно, как нет в «Рукописи, найденной в Сарагосе» места, соответствующего пушкинскому стихотворению «Альфонс садится на коня».
Пушкин знал не только роман Потоцкого, но и его научные труды, на один из которых он ссылается, в частности, в своём «Путешествии в Арзрум», где говорится: «По свидетельству Плиния, Кавказские ворота, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодонис. Тут была воздвигнута и крепость для отражения набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы». [3] «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VI, стр. 652. Далее будет пояснено, почему Пушкин пишет об «испанских романах» Потоцкого во множественном числе. Примечательно, что, описывая быт и нравы людей, с которыми поэт встречался во время путешествия, он, так же, как Потоцкий, обращал особенное внимание на их религиозные верования (к пушкинскому «Путешествию», как известно, приложена «Notice sur la secte des yésides» — «Заметка о секте езидов»).
Как отмечают комментаторы Пушкина, [4] Там же, стр. 652.
в данном случае он имел в виду посмертно изданную в 1829 г. на французском языке книгу Яна Потоцкого «Путешествие в степях Астрахани и Кавказа». Не лишено интереса также и то обстоятельство, что в своё время Потоцкий посвятил целую книгу секте езидов, так заинтересовавшей Пушкина, что он приложил к «Путешествию в Арзрум» заметку о ней, написанную итальянским миссионером падре Маурицио Гарзони и включенную во французском переводе в книгу Ж. Ж. Руссо «Описание Багдадского пашалыка» (1809). Это лишний раз свидетельствует о разносторонности интересов Пушкина, внимание которого привлекла и незаурядная личность Яна Потоцкого, читателем которого, как известно, был и П. А. Вяземский.
Свыше ста лет тому назад славившийся тогда польский историк и публицист Михал Балиньский (1794–1864) писал в своём очерке, вошедшем в собрание его сочинений: «В первом ряду ученых людей восемнадцатого века в Европе в качестве историка находится вне всякого сомнения граф Ян Потоцкий. Его многочисленные труды, посвященные путешествиям и историческим исследованиям, отмечены чертами тщательной добросовестности как в путевых записях, так и в исторических разысканиях, а, помимо этого — совершенной неутомимости в труде». [5] «Pisma historyczne Michała Balińskiego», t. III. Jan Potocki. Wędrownik, literat i dziejopis. Warszawa, 1843, Str. 137.
Но, несмотря на то, уже в 20-е годы прошлого столетия ученые труды Потоцкого переиздавались в разных странах, [6] Так, например, в 1823 г. в Петербурге вышло третье издание «Археологического Атласа Европейской России, сочиненного графом Иваном Потоцким». В 1829 г. французский историк-ориенталист Жюль Кляпрот, много сделавший для увековечения памяти Потоцкого (в 1824 г. он опубликовал описание архипелага Потоцкого, а за год до этого посвятил его памяти описание путешествия на Кавказ, в частности, в Грузию), переиздал в Париже со своими комментариями и картами «Voyage dans les Steps d'Astrakhan et du Caucase. Histoire primitive des peuples qui ont habité anciennemment ces contrées. Nouveau Périple du Pont-Euxin, par le Comte Jean Potocki» («Путешествие в Астраханские степи и на Кавказ. Первобытная история тамошних древних племен. Новый Перипл Понта Эвксинского, [сочиненный] графом Яном Потоцким»).
они вскоре были почти совсем забыты, а имя этого поразительного человека начало выплывать из сумрака забвения только как имя автора «Рукописи, найденной в Сарагосе». Между тем личность и деятельность Потоцкого заслуживают самого пристального внимания как одного из самых выдающихся людей Века Просвещения в Польше и подлинного основоположника славистики.
Интервал:
Закладка: