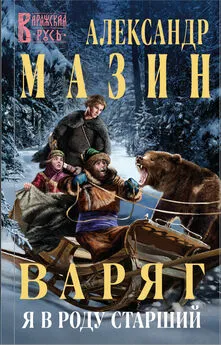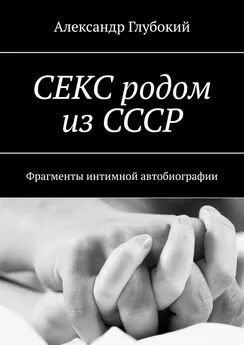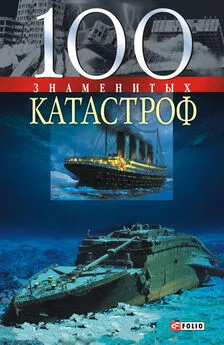Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Название:Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица краткое содержание
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Петь в Москве не дозволялось, и все челядники в гончарне Жданова шикали на него да покрикивали, хоть и влекла их та песня, ибо уже разумели, что бог послал им недюжинного певца.
Когда в первый день петь ему так и не дали, Омелько, оторвавшись от работы, попробовал было пройтись плясом по мастерской со всякими штуками да выкрутасами, так что его насилу угомонили, — он тогда вынул из-за пазухи сопилку и тихо заиграл. Светлые и пушистые, точно у поросенка, ресницы двенадцатилетней непоседы дрогнули, замигали, и Аринушка, чуя, что вот-вот заплачет, шепнула Омельяну:
— Перестань!
Слово это прозвучало совсем по-взрослому, будто старшая сестра остерегала малого озорника.
— Перестань, я сказала! — сурово повторила Арника, тряхнув куцыми косичками.
Омелько не послушался и на сей раз. Пальцы бегали по дырочкам сопилки. А васильки очей засверкали гневом, стали больше, синее, искрами пошли, и Аринка сказала:
— Коли услышит кто чужой, быть беде.
— Пустое! — с досадой повел плечом Омелько, от губ не отрывая сопилки, своей отрады в долгом пути.
Не помня, что делает, Аринка выхватила из рук Омелька сопилку — и вот… в руках у нее остались два неравных куска.
— Орино! — задрожав, люто крикнул Омельян Глек и, словно его косой резанули по ногам, склонился на гончарную лавку, оперся о круг, и понеслись в голове мысли быстрой чередою: и Мирослав ему вспомнился, и война, и отец с Лукией, и Подолянка, и старый Варфоломей, и то, какой утехой была сопилка в долгом пути, в полях да лесах России, пока добирался Омельян до Москвы…
— Зачем ты? — тихо спросил он погодя у перепуганной девчушки.
— Я сделаю тебе такую же, — прошептала она, вытирая слезы.
— Не сумеешь…
— Сделаю!
Омелько не ответил, а девчушка ждала его слова, его гнева, такого ж лютого, как прорвавшийся в исступленном возгласе «Орино!», когда услышал, как хрустнуло калиновое дерево, когда что-то хрустнуло в тот же миг у него в сердце, затем что вспомнил то ли шуткою сказанное, то ль и впрямь правдивое слово нищего старца, что его сопилка за-ча-ро-ва-на…
Забрав из рук Аринушки обломки, он бережно спрятал их за пазуху, ничего не сказал, даже не глянул на попрыгунью, сердитый, огорченный, а ей ведь хотелось, чтоб накричал, чтоб ударил — пускай! — только б не отворачивался так бездушно, — и она опять прошептала те же слова:
— Сделаю такую же…
— Попробуй, — согласился Омелько, коему уже стало жалко малую егозу. — Баловаться только! — буркнул он.
— От Сибири она тебя спасла, — сказал Шумило Жданов.
Девочка молчала, только глазенки мерцали синим огнем да косицы шевелились, как от ветра.
— Ни в жизнь не поверю, — заговорил Омелько, — чтоб за сопилку, за песню — в Сибирь! Пустое!
Никто ему не ответил.
— То ж дело божье — песня, — продолжал Омельян, но его будто никто и не слышал, и он говорил словно бы сам с собою. — И птицы небесные поют во славу господню. И люди бога прославляют — песней! Кто ж возбранит божье дело? Песню?!
— Государь, — смятенно ответила Арпнка.
— Государь иль бояре?
— Государь, — вздохнул Шумило Жданов.
— Запретил русским людям петь?
— Запретил. Государь.
И малая Аринушка, и те мужики да парни, черная челядь, что работали в гончарне у Жданова, да и сам Шумило, русская широкая душа, поведали Омельку про царскую грамоту, изданную годов десять назад, а потом не раз и подтвержденную, царский неукоснительный приказ, что был читан тогда по церквам и соборам, по торжкам повсеместно — в городах и волостях России, в станах и погостах, — про грамоту, в коей молодой государь, облыжно подученный попами, повелеть изволил:
«В домах, на улицах и на полях песен не петь…»
И еще:
«Не плясать, руками не плескать, в ладони не бить! И игр не слушать!»
И далее:
«На свадьбах песен не петь, не играть — глумотворцам, органникам, смехотворцам, гусельникам, песельникам…»
Да и «на святках в бесовское сонмище не сходиться, игр бесовских не играть, песен не петь, загадок не загадывать, небылых сказов не сказывать, смехотворением душ своих не губить…»
Возбранялось губить души еще игрою в карты иль в шахматы, да и на качелях качаясь, да и в личины скоморошьи рядясь, с гуслями, бубнами, зурнами, домрами, волынками да гудками расхаживая…
Ослушников вперворяд «бить батоги».
Вдругорядь — тоже батогами, сиречь палками.
А на третий раз — «ссылать в украйные городы», то есть куда-то на север, а то и в Сибирь, откуда никто и никогда живым не ворочался…
И наш Омелько вспомнил, как видел на том берегу Москвы-реки трескучее огнище, на коем государевы стрельцы, ломая, жгли «гусли и все подобные гудебные сосуды», и уразумел теперь: почему и зачем…
— Вот так и молчите? — сокрушенно вздохнув, спросил Омельян.
— Молчим, — кивнули челядники.
— А сам пресветлый царь потаенно завел, сказывают, некие потешные палаты, — начал Шумило Жданов шепотом, озираясь на тонкую неструганую дверь своей лачуги. — Домрачеи там у него. И скоморохи, люди сказывали, по канату ходят. Заморские игрецы — на флейтах, на виолах, цитрах…
Аринушка спросила:
— А на Украине… поют?
— Поем. И плачем, — горько усмехнулся Омельян. — Горят города и села. Льется людская кровь. Да еще измена там у нас, на берегах Днепра. И панщина… и злая нищета!
Омельян рассказывал добрым москвитянам и про все те беды, что вновь постигли Украину, и про издевку шляхты (и своей и польской), которая вот так же и украинское слово, и козацкую песню, и веру православную — все попирает и поносит, топчет, людей обращая в серую скотину…
— Вот так и у нас… — вздохнул Шумило Жданов.
— И все-таки поете? — в который уже раз спрашивала неугомонная девчонка.
— Поем. Без песни жить… да лучше помереть!
— Такой народ! — кивнул Шумило Жданов.
— А вы — будто не такой?! — вскипел Омелько. — Того же корня!
Когда уж совсем пригорюнились те славные люди в гончарне Ждановой, чтоб распотешить их, стал Омелько сказки сказывать, да столь забавные, аж забыли москвитяне, что чубатый говорит на другом языке, непривычном для уха, ибо всё в сказках они разумели, и тихий приглушенный смех порою рассыпался искрами над огоньком, зажженным в их душах пришлым парубком, затем что иного огня в гончарне Жданова не было, да и быть не могло: вечерами в Москве жечь плошки бедным людям не дозволялось.
Они гасили и свой тихий смех, ибо и смеяться было боязно в Москве, да и сказки сказывать государь не велел.
Хотя беспечный Омелько не больно думал о запрете, гончар Шумило Жданов мог-таки за ту сказку отведать добрых батогов, — но и про сию угрозу забыли, ибо то, что рассказывал веселый парубок, жадно впитывали души россиян, коим уразуметь хотелось, что ж там за народ живет, на берегах Днепра…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
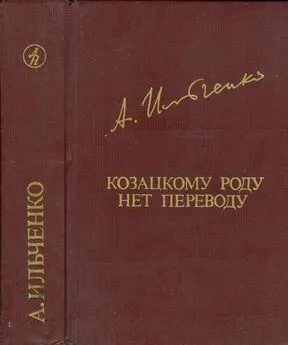
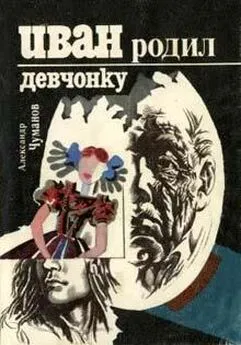

![Александр Пивко - Последний из рода Корто [litres]](/books/1080639/aleksandr-pivko-poslednij-iz-roda-korto-litres.webp)