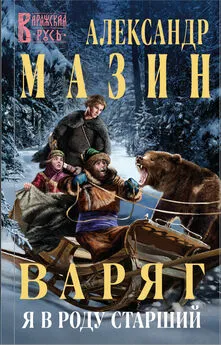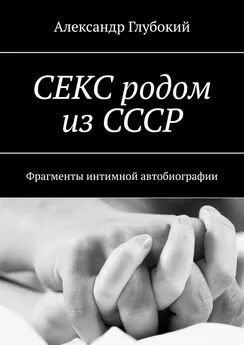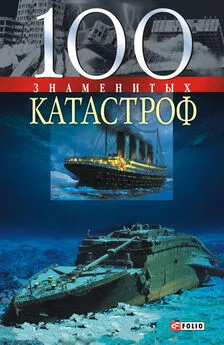Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Название:Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица краткое содержание
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А золота было вокруг довольно.
Трепетное мерцание тысяч свечей — на ставника́х, под куполом, в паникадилах, в руках у мирян — отражалось на иконостасах, окладах, на ризах и крестах, на дискосах и чашах, на боярских одеждах, на облачении церковнослужителей, в тысячах живых глаз, захваченных могучим искусством певца.
Всюду лучилось золото, и только царь на этом фоне и впрямь был белым царем: в зипуне белехоньком («объярь серебряна, травки — зо́лоты»), в становом кафтане из белой камки кизилбашской, на коей (по серебряному полю) были вытканы крылатые люди, в кованом серебряном кружеве — грузно стоял государь, весь усыпанный перлами окатными, застежками алмазными, с алмазной на шее цепью.
Когда святое песнопенье опять дошло до «аллилуйя» и Омелько Глек сомкнул уста, случилось тут нечто неслыханное и, верно, непоправимое.
Аринка чуть толкнула Омелька в бок, но сей неотесанный хохол (хоть и побывал уже в Европах) не понял, чего ей надо.
Тогда Аринушка, чтоб надоумить хлопца, упала на колени и стала бить перед царем земные поклоны, но Омелечко, наш простоватый казачина, стоял что истукан меж идолопоклонников.
Служба церковная шла себе дальше, но сдавалось, что в Успенском соборе вымерло все живое.
Сквозь тонкую кожу на щеках государя проступали уже красные пятна. Он кусал губы.
А Омелько стоял.
За то малое время он должен бы поклониться в ноги царю уже десятки раз, но, забыв про все, чему его учили, думал лишь об одном — вручить царю письмо, да не отваживался нарушить непреложное течение литургии.
И царь не выдержал.
С покрасневшего лица катился пот.
Ему уже нечем было дышать, сердешному.
Чтоб не стать посмешищем, ибо такого певца сгоряча карать смертью либо навечною темницею царю не хотелось, как не хотелось бы терять редкостную певчую птицу, как не хотелось бы убить в своем зверинце какого-нибудь диковинного зверя, как не хотелось бы выбрасывать драгоценный адамант, нежданно попавший в руки, — государь, сколь ни был оскорблен неслыханной дерзостью хохла, снял с пухлого пальца тяжелый с брильянтом перстень, что и цены ему не сложить (угадал Козак Мамай и тут!), и протянул певцу.
Через узкое окно луч солнца упал на белейшую мягкую ладонь, и брильянт будто зазвенел даже, солнышком полыхнув на весь храм, и уже не понять было, что́ тверже: лезвие луча, божья слеза брильянта иль упорство парубка-зазнайки?! — ясно было одно: не оборванцу ж холопу носить на руке такой роскошный камень!
Да и сам царь уж сожалел, что сгоряча отдал какому-то пришельцу столь дорогую вещь: государь всея Руси всегда сокрушался о том, что сделал (и о дурном и о добром), о том, что отдал, о том, что посулил…
Литургия плыла торжественным руслом далее, а Омельян стоял и, ощупывая в шапке письмо мирославцев, завороженный, глядел на тот изрядный камушек, однако перстня не брал.
— Да бери ж, полоумный! — преострым своим локотком так двинула Омелька в бок Аринушка, что шальной хохол чуть не застонал от боли и разом вспыхнул от некоего острого и сложного чувства, и тут же ему вспомнился почему-то Козак Мамай, как серпом по душе резануло шутливое его прорицание: царский дорогой подарок! Драгоценный перстень! Вот он! «Близ царя — близ смерти!», и он глубоко вздохнул. Однако не только перстень: Мамай на прощанье велел быть осторожным среди опасностей, коими грозит царский двор, — все ведь жили тогда на Руси «душой божьи, телом — государевы»… Мамай, вишь, советовал Омельяну держаться перед земным царем степенно, разумно, оглядчнво, чтоб, случаем, не свалять дурака и не погубить вместе со своей головой и народного дела, которое привело мирославца с письмом в Москву.
Обругав себя на чем свет, Омельян хотел было протянуть руку за перстнем, однако, неведомо как почуяв, что государь уже, видно, жалеет о своем многоценном даре, певец низенько поклонился, так, что даже молодецкий козачий оселедец упал ему на высокий лоб. Посланец Украины не бухнулся царю в ноги, как на Руси делали все без изъятия, а именно поклонился — доземно, но с достоинством, еще и смушковою шапкою промел раза три по каменному полу собора, как то с вывертом проделывает знатное панство перед монархами по европейским дворам, что видел Омельян, когда возвращался из Италии, а теперь повторил виденное столь изысканно, галантно и куртуазно, словно стоял перед царем не в драном жупане простого козака, а по меньшей мере в тех пышных одеждах, в кои последнее время любила рядиться запорожская старши́на, козацкие богатеи, что уже научились щеголять не хуже веницийских, венских, варшавских или московских вельмож, кои все тщатся блеском своим затмить французское дворянство…
Поклонившись снова и снова, Омелько молвил:
— Аз недостойный раб! — и кивнул на руку царя: — Не заслужил такого дара, ваше величество! — И он ступил вперед, чтобы припасть, как его учил Мамай, к деснице государевой, да среброгрудые «рынды для бережения», телохранители, в белых турских кафтанах, с бердышами серебряными на плече, кои прежде стояли недвижно, окаменело, с бледными претолстыми и претупыми харями, лоснящимися от пота, с равнодушным ко всему на свете взглядом, сразу двинулись вперед, чтобы парубка схватить, — но, почитая службу божию, царь остановил их, и литургия потекла далее, и снова, все голоса покрывая, запел Омелько Глек.
Раскаты его голоса, уже став отголосками, какие-то мгновенья еще гуляли волнами под сводами собора, и тишина, когда наш Омельян умолк, внезапно взорвалась в ошеломленной толпе — смятенным вздохом тысячи грудей, доброхвальным словом, тихим возгласом восторга и благодарения богу. Шелковыми платами стирая с государева чела пот, именитые бояре слышали, как он неровно дышит, разумели его радость, видели благостное сияние на лике тишайшего государя, который, всех удивив, даже внимания не обратил на то, что сей чубатый приблуда не упал перед ним на колени: в московской державе тогда никому не спускали неуважения к царю.
Растроганный и умиленный Омельковым пением, государь только сопел да мигал кроткими голубыми глазами, — в его ушах еще звенел чудодивный голос козака, и царю в сей миг, как то частенько с ним бывало, «отложив ныне всякое житейское попечение», хотелось быть добрым: не напоказ, как случалось порой, а для своей же утехи, чтоб светлее было на душе, и царь вовсе не хотел посылать голосистого парубка на плаху, на дыбу, на виселицу — на тот свет, словом, хотя малейшая и даже непреднамеренная к царю неучтивость и даже случайная оговорка при возглашении его длиннейшего титула считались тогда тяжким государственным преступлением, за кое безотлагательно судили в проклятом богом и людьми Приказе тайных дел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
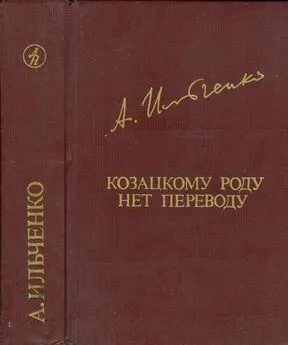
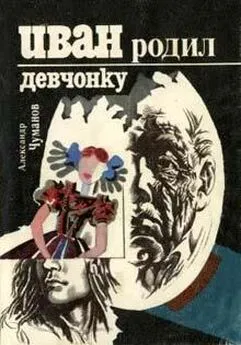

![Александр Пивко - Последний из рода Корто [litres]](/books/1080639/aleksandr-pivko-poslednij-iz-roda-korto-litres.webp)