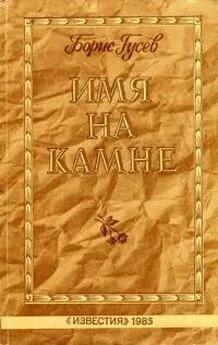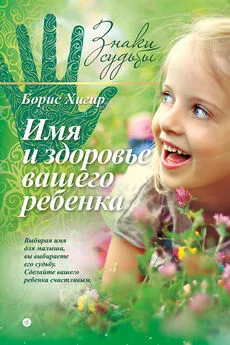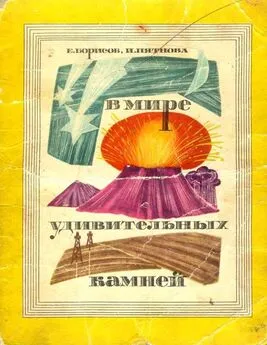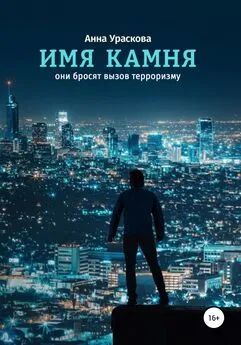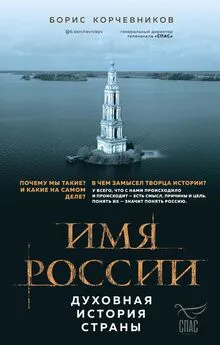Борис Гусев - Имя на камне
- Название:Имя на камне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Гусев - Имя на камне краткое содержание
Книга рассчитана на массового читателя.
Имя на камне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Значит, задумайтесь еще раз о жизни, о своей роли в ней.
1968—1983 гг.
ПОТЕРЯННЫЕ КАРТОЧКИ
Ленинградцы — люди пунктуальные и строго соблюдают установленные традиции. Про полуденный выстрел в Петропавловской крепости все знают. И в этот момент в радиусе слышимости (12—15 километров) горожане смотрят на часы; одна из торжественных традиций: ежегодно 27 января — в годовщину полного освобождения города от блокады — по ленинградскому радио раздается стук метронома. Спокойный, медленный, какой звучал из репродукторов осажденного города в часы затишья, когда не было ни обстрелов, ни налетов вражеской авиации. (В тревогу он стучал быстро.) Те, кто не был здесь в блокаду, но слышал этот гулкий мерный стук в прежние годы, понимающе прислушиваются: те, кто приехал в Ленинград совсем недавно, с недоумением переглядываются — им еще незнакома эта традиция.
У тех, кто был здесь в блокаду, стук метронома вызывает ассоциации совершенно определенные. Ведь это было? Было! Прошли десятилетия, а в памяти — заснеженные улицы, вмерзшие в рельсы трамваи, амбразуры в одноэтажных угловых зданиях, трупы на улицах… И ты, зажавший в кулак хлебные карточки…
На дворе сейчас не начало сороковых годов, а конец семидесятых, которые тогда, в блокаду, не грезились нам, казались чем-то несбыточным. В то время об одном лишь была мечта: скорее бы война кончилась. И она кончилась. Прошли годы… Снова было 27-е число, вновь стучал метроном. На станциях Ленинградского метро продавали мимозы, гвоздики и даже нарциссы — столь редкие в январе. У подъездов ресторанов вечером стояли пожилые люди, собравшиеся на традиционную встречу. Очевидно, дожидались соратников. Придет ли запоздавший? А может, 1978-й унес его с собой, и у строгого здания крематория, что за Пискаревским мемориальным кладбищем, появилась еще одна урна? Даже нам, кому было тогда пятнадцать-шестнадцать, теперь за 50. А нашим отцам, матерям, дедам? Время, время…
Настоящего блокадника узнаешь сразу. Если он случайно зашел в гости (не в день рождения и не в праздник), никогда не сядет за стол, прежде чем не убедится, что у хозяев, как говорится, полна чаша. Не забывать о том, чтобы ты не съел последний кусок, — это осталось. В семьях бывших блокадников те же нравы. Уж, кажется, все есть, и обеда хватит на всех, и останется на завтра, и холодильник полон… Нет! Все равно настороженный взгляд: не обделен ли кто-то? Память блокады. Я говорю об этом не с сухостью стороннего наблюдателя — и во мне, наверное, есть эта черта, она стала привычкой. То же я мог бы сказать и о таких скромных, незаметных труженицах, как Нина Ивановна Нарицина, Антонина Степановна Морозова. Они ухаживали за ранеными воинами в госпитале на окраине Выборгской стороны.
А особенно эти черты бывают заметны именно в годовщину снятия блокады. Когда коренные ленинградцы собираются за столом. Тут вы непременно найдете человека, который незаметно подкладывает соседу свой кусок, хотя, повторяю, стол ломится, и услышите возглас: «Нет, нет, мне не надо», — и видите руку, загораживающую свою тарелку (зачем — неизвестно). Хотя потом гость все равно согласится принять кушанье: застолье есть застолье. А все в общем-то понятно. В повседневном суровом блокадном бытии, которое сложилось за 900 дней, просто не принято было питаться за чей-то счет, в ущерб кому-то. Куревом делились, особенно на фронте, передавая из рук в руки. Но и то — на равных.
В годовщину освобождения за праздничным столом вы непременно услышите от блокадников какую-нибудь историю. Иногда вспоминают и жестокие случаи. Как люди теряли продовольственные карточки. Бывало и похуже. Все проявлялось в крайних пределах. Карточки — это была жизнь, потому что никакого источника существования, кроме положенных 125, а рабочим и инженерно-техническим работникам — 250 граммов хлеба в день, не было. За буханку хлеба отдавали золотые часы, кольца — но некому было их отдать. На карточках было написано: «При утере не возобновляется».
Вот случай. Был январь. Тот — 1942-й. Вечерело. Прасковья Тимофеевна отоварила в магазине карточку (свою, рабочую, по детским она выкупила утром) и шла домой по путям. Она жила на Сортировочной улице в районе Лиговки, в железнодорожном поселке. В руках у нее была сумочка, где лежали деньги, паспорт и продовольственные карточки на весь месяц. Шла она медленно, останавливалась, чтобы передохнуть.
Пришла домой. Ее ждали две девочки, дочери 8 и 10 лет. В трехкомнатной квартире каменного дома жили три семьи. Еще одна женщина, тоже с двумя детьми, и две девушки, медсестры. Но в самые холодные и голодные месяцы все жильцы квартиры съехались в одну комнату, где была печь-времянка. Как говорится, на миру и смерть красна. Электричества не было. Комнату тускло озарял свет коптилки. По стенам стояли кровати, в центре печурка, вокруг нее и теплилась жизнь. На столике стояли какие-то баночки, кастрюли пустые и с жидкой баландой. У каждой семьи свое хозяйство. Ведро с водой — водопровод не действовал. Это ведро таскали от водокачки за полкилометра по очереди. Но только для питья. На иные нужды топили снег.
И вот пришла Прасковья Тимофеевна. Первым делом поставила на печурку кипяток. Вернулись соседи. Поговорили, погадали, что объявит Андреенко на следующую декаду — растительное или животное масло. Он был в Ленинграде фигурой весьма известной. За его подписью — начальника отдела торговли исполкома Ленгорсовета — в газетах появлялись сообщения о нормах выдачи на декаду: мяса, сахара… В декаде с открытием ледовой дороги норму прибавили на 25 граммов; значит, к лучшему идем.
Спать легли рано. На кроватях, закутавшись во что было, лежали женщины, дети. Где-то ухнул взрыв, начался обстрел. Черная тарелка репродуктора молчала, вернее, работала, но так тихо, что не слышно. Энергии нет. Осенью, бывало, как начинался обстрел или воздушная тревога, все спускались в бомбоубежище. Теперь уже не ходили: не было сил.
Утром Прасковья Тимофеевна встала первой, чтобы успеть сходить в магазин до работы. И в это время раздался стук.
— Кто там?
— Чеславские здесь живут?
— Здесь.
Она отворила дверь. Вошел мужчина.
— Где тут Чеславские?
— Я, я Чеславская. В чем дело? — испуганно спрашивала Прасковья Тимофеевна.
Вошедший оглядел комнату, освещенную коптилкой, лежащие на кроватях насторожились, высунули головы из-под одеяла.
— У вас, гражданочка, ничего не случилось? — спросил незнакомец.
Теперь свет коптилки слабым отблеском падал на его худое, изможденное, но не старое лицо. На нем был промасленный ватник, ушанка с опущенными ушами. Войдя в комнату, он, однако, снял шапку.
— Да в чем дело? — спросил кто-то.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: