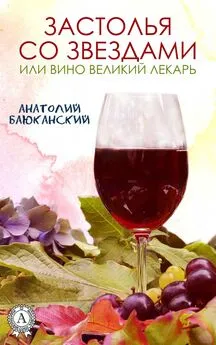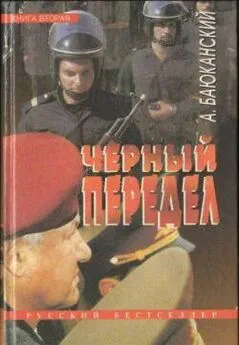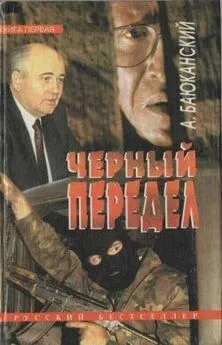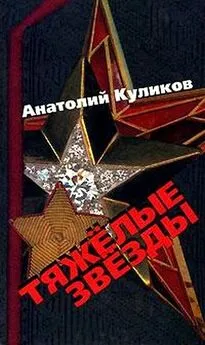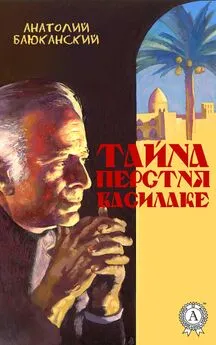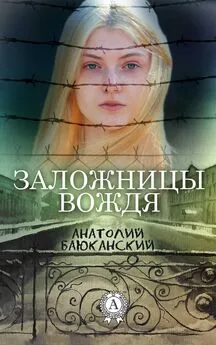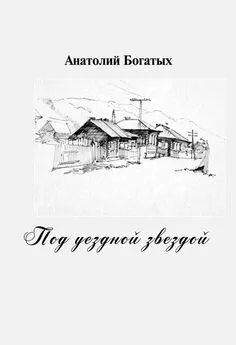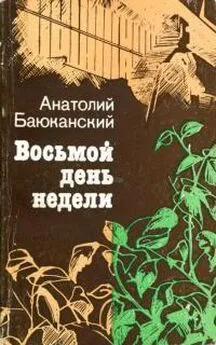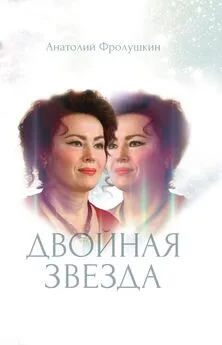Анатолий Баюканский - Застолья со звездами
- Название:Застолья со звездами
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мультимедийное издательство Стрельбицкого
- Год:2016
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Баюканский - Застолья со звездами краткое содержание
Существует распространенное мнение, что вино это яд, что оно вредит здоровью. Автор с этим утверждением не согласен. Бывая во многих странах, он убедился, что правильное и умеренное употребление вина полезно для человеческого организма. Ибо, как говорили древние, в нужных дозах и яд лекарство, а в больших и лекарство — яд. Автор приводит многочисленные высказывания известных людей, подтверждающие это мнение. Автор из личного опыта свидетельствует о необыкновенных ситуациях, когда вино лечило, спасало и выручало из смертельной опасности…
Застолья со звездами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Затем начались занятия в группах. Однажды стали обсуждать очерки Личутина. И все сразу удивленно замерли, услышав образный северный говорок, мало похожий на привычный нам язык. Словно живые, предстали перед нами северные скитальцы, юродивые, сказители. Это было, как гром среди ясного неба. Нас ведь ориентировали на создание «полотен» о строителях коммунизма, а тут… старина, детали северного быта, суровая северная природа и людские души.
Запали в сердце его образы, даже сегодня помню, как в одном его небольшом очерке гончар босыми ногами месил глину, вытягивая из нее животворные соки, попутно избавляя себя от ревматизма.
Я тогда представлял на семинаре Липецкую область, вернее, новолипецких металлургов. Мои работы, в частности, десятилетний писательский пост в журнале «Подъем» был высоко оценен. Но я хочу сказать о другом. Один из организаторов семинара, писатель Анатолий Чехов, ставший впоследствии моим хорошим другом, в день закрытия семинара предложил поблагодарить руководство Союза писателей и ЦК комсомола. Я охотно согласился, не представляя, какой конфуз за этим последует.
Закрытие было очень торжественным. В зале собрались известные писатели, деятели искусства, ведущие журналисты, представители центральных издательств. Все шло как по маслу. Хвалили друг друга взахлеб. Наконец предоставили слово и мне.
Начал, как учили, за здравие, а закончил — за упокой. Как-то незаметно углубился в несвойственную для себя тему о языке рабочего класса в очерковой литературе. Когда произнес коронную фразу «сейчас наш рабочий класс изъясняется либо на языке лозунгов, либо на языке мата», в зале возникло легкое замешательство. После того, как я сошел с высокой трибуны, аплодисментов не последовало. Встала поэтесса Людмила Татьяничева, она тогда занимала пост одного из секретарей Союза писателей России, и вынесла мне приговор:
— Не знаю, как изъясняются замечательные металлурги в Липецке, а у нас, на Урале, язык металлургов — образный, человечный, язык настоящих строителей коммунизма.
Словом, концовку торжества ваш покорный слуга окончательно испортил. Как по команде, от меня сразу отвернулись и семинаристы, и руководители. И только Володя Личутин на виду у всех пожал мне руку и сказал: «Не больно-то тужи, паря, всяко век-от наживесся, с коровой и без коровы…»
Слух о моем откровении живо разнесся по литературным кругам. Один довольно известный московский драматург Л. Яскевич записал в мой альбом по этому поводу следующие строки:
Мой милый Толя! Я не рассержусь,
Коль обо мне и пьесах скажешь ты сурово.
Но одного я искренне боюсь:
Не говори на семинарах заключительного слова…
Однако вернемся к Владимиру Личутину. Я не хочу повторять уже известные истины о том, что из него и впрямь получился крупный и очень своеобразный русский писатель, я считаю, что он один из самых «настоящих» и оценен по достоинству. Скажу о мимолетных своих впечатлениях от встреч с ним.
Однажды я вновь приехал зимой в ставшую родной Малеевку — «зимнюю сказку», как называли ее писатели-завсегдатаи. Получил ключ от номера и… в холле столкнулся с будущим соседом, секретарем писательской организации Архангельска и ни к селу, ни к городу, брякнул:
— Знаком с вашим Личутиным.
— А Владимир здесь! — сказал его земляк. — На втором этаже живет.
Во время обеда этот настырный вожак подвел меня к столу Личутина и сказал:
— Володя, видишь, твоего знакомца привел!
— Здравствуй, Володя! — обрадовано проговорил я.
— Здравствуйте, — неуверенно ответил Личутин, — но… я что-то вас не припомню.
Вот это был конфуз! Секретарь радостно потирал руки. Возможно, он заподозрил, что я говорю неправду, просто желаю похвастаться таким знакомством. Я начал напоминать Личутину наши беседы и встречи в Переделкино. Но, видя пустоту в его глазах, обозлился:
— Не помнишь, и не очень-то хотелось. — Повернулся и ушел…
Не узнать его мог я — Личутин огрузнел, завел рыжеватую бороду, но я-то остался прежним. Было крайне неприятно так оконфузиться…
Спустя пару часов в дверь комнаты постучали. Вошел Владимир, сказал извиняющимся тоном:
— Прости, паря, все я вспомнил. Когда ты подошел, я думал о…
Мы пожали друг другу руки.
Ох, какой рьяный он теннисист! Я видел, как он яростно, с выкриками «сражался» в пинг-понг со своим другом Станиславом Куняевым. Я, будучи кандидатом в мастера спорта СССР, конечно, легко стал их обоих обыгрывать. Куняев только посмеивался, а Личутин вошел в такой азарт, что стал неузнаваемым. Как ярый картежник, уверенный в том, что ему не везет временно, после каждой проигранной партии восклицал: «Давай еще, счас отыграюсь!»
Наверное, это была его черта характера — никогда не сдаваться, даже несмотря на явное превосходство противника. Но едва игра закончилась, он снова стал самим собой — добрым, чуточку насмешливым, готовым на все ради хорошего человека…
Виделись мы после этого несколько раз. Став Мастером литературы, Личутин не то, чтобы зазнался, просто Москва заставила измениться. Знал я, что жил он поначалу трудно, потом женился на красивой, но вряд ли понимающей его нутро москвичке. Она, помнится, была выше его ростом и являлась эдакой московской «штучкой». Я, грешным делом, про себя подумал: «Не пара эта гагара ему».
Вскоре Личутин появился в Малеевке с новой женой, которую привез из дальних северных краев. Вот она была ему настоящая пара, от них, как говорится, нельзя было отвести глаз.
Сегодня семидесятилетний Владимир Личутин — капитан российского литературного корабля. Одна московская газета изобразила его как-то в капитанской форме. И я по-прежнему, с удовольствием читаю его трудные, но увлекательные, истинно северные романы и всякий раз вижу перед собой его хитроватые глаза, в которых как бы застыла фраза: «Всяко век-от наживесся, с коровой и без коровы».
Что, правда, то, правда.
АНГИНА ЛЮДОВИКА
Абхазия, Гагры
Случилось это в городе Гагры. Соседа за моим столом в доме творчества писателей неожиданно попросили выйти из столовой. Время обеда как раз заканчивалось, и я машинально пошёл вслед за ним. Во дворе возле деревянного забора стоял невысокого роста абхазец в папахе при усах и бороде и в потёртом бешмете. Справа от него был привязан к дереву осёл с большой поклажей, а слева я разглядел жирного барана.
Моего соседа, которого, как я позже узнал, звали Илья Альп, был родом из этих мест, закончил Сухумский медицинский институт. За свои смелые и талантливые операции его послали учиться во Францию, и в Абхазию он уже не вернулся. Остался работать в Москве и среди коллег завоевал дружеское прозвище — Звезда хирургических операций. Его вызывали все медицинские учреждения, где нужна была консультация, а то и практическая помощь. Однако связей с Абхазией он не терял, и все свои отпуска проводил в горах и у тёплого моря и пользовался большой любовью местного начальства, так как кому-то из родственников сухумского прокурора спас жизнь, кому-то помог найти работу в Москве. Однако не будем забегать вперёд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: